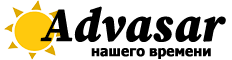Перевод доклада американского канониста и историка Церкви протоиерея Джона Х. Эриксона, прочитанного в ходе Виндзорского совещания по вопросам православной экклесиологии в декабре 2009 года.
Многие описывают XX век как век Церкви. Несомненно, это был век экклесиологии, век письма о Церкви. Но хотя это замечание, конечно, верно, как и все обобщения оно требует некоторых оговорок. Это не значит, будто в прошлые века жизнь Церкви просто протекала без размышлений о её природе и предначертании и о переменах, которые неизбежно сопровождают её во время странствий в мире сем.
Писания отцов Церкви и самого Нового Завета показывают, что это было не так. Но Церковь не составляла независимого предмета для богословского исследования и описания. Христиане шли с проповедью о едином Боге, Творце неба и земли, против различных дуалистических религиозных движений своего времени. Они проповедовали Христа и дело примирения людей с Богом, которое Он совершил. Они на себе испытывали силу Христова примирения в Святом Духе и выражали это своей святой жизнью. Они не начали с проповеди о Церкви, не говоря уже о писании книг о Церкви. И это ведёт к довольно интересной ситуации. В Символе веры мы исповедуем свою веру во «единую, святую, соборную и апостольскую Церковь», так же как мы исповедуем «единого Бога Отца, Вседержителя», «единого Господа Иисуса Христа» и «Духа Святого, Господа животворящего». Церковь — это предмет веры, часть нашей веры. Однако не существует — по крайней мере, для православных — никакого догмата о Церкви, сопоставимого с тринитарными и христологическими догматами древних Вселенских соборов. В трудах отцов и в литургии и в иных выражениях церковной жизни Церковь описывается или, вернее, величается как новый рай, духовный Эдем, храм Божий, земное небо. Но нет определения Церкви.
Многие из тех же соображений верны и по отношению к православной канонической традиции. У Православной Церкви нет никакого кодекса канонического права, сравнимого с Corpus Iuris Canonici (Свод канонических законов) Римско-Католической Церкви. Православный канонический сборник — это собрание, не особенно систематичное и совсем не исчерпывающее, древних соборных и патристических текстов, которые чаще всего формулировались в ответ на конкретные проблемы и обстоятельства. Тех, кто нёс ответственность за эти тексты, прежде всего, волновало сохранение таинственной жизни Церкви, так сказать, обеспечение нашего полного доступа к Богу во Христе. Церковные структуры и институты предназначались для охраны этой реальности. Они не рассматривались отдельно от этой реальности, гораздо меньше как что-то над этой реальностью, что контролирует её некоторым образом. Так, когда мы внимательно изучим каноны так же, как и тексты литургии, отцов Церкви и подобные источники, мы не найдём полного и авторитетного определения Церкви или даже попытки дать такое определение.
Итак, экклесиология — это сравнительно новая отрасль богословских исследований. В древности было много разногласий по поводу Бога, Христа и Святого Духа, и богословы обращались к этим проблемам. Противоречия по поводу Церкви, её природы, авторитета и характерных структур, иногда возникали, но такие разногласия стали важными для подъёма экклесиологии гораздо позднее и в совсем другом контексте. Особенно важными для появления экклесиологии были противоречия между католиками и протестантами вследствие Реформации XVI века. Протестанты были склонны определять «единую, святую, соборную и апостольскую Церковь» как чисто «духовную» (в данном случае, значит, невидимую) реальность. С другой стороны, католики особенно подчёркивали видимые, институциональные аспекты Церкви и настаивали на том, что вне этого Богом основанного института, с Папой в качестве видимого главы, нет спасения. Только на этой стадии православные вступили в дискуссию. Но, как часто шутили учёные, здесь, как и во многих других вопросах, православные чаще всего просто брали на вооружение католические аргументы для опровержения протестантов и протестантские аргументы для опровержения католиков, — а для опровержения католических претензий они принимали их как свои собственные. Так, например, в ответ на католические претензии быть единственным Богом основанным институтом, где возможно спасение, православные утверждали, что они и являются тем самым единственным Богом основанным институтом. В результате в православных представлениях экклесиологии — как и в католических представлениях — таинственная перспектива ранних веков была по сути дела вытеснена по большей части институциональным пониманием Церкви.
В XX веке — и уже в XXI веке — количество работ по экклесиологии значительно возросло как среди католиков, протестантов, так и среди православных. В некоторых случаях эти работы просто повторяют положения, впервые чётко формулированные во время конфессиональных споров предшествующих столетий. Но чаще они принимают совсем другое направление. Новое в последних исследованиях экклесиологии состоит в том, что в высокой степени оно развивалось в экуменическом контексте. Вместо того чтобы подогревать полемику, как это было в прошлом, разделение христианства пробудило в богословах осознание того, что оно не естественно и что христианского единства можно достичь, но только через диалог. Вместе с этим экуменическое сознание стало углубленным историческим сознанием. Столкнувшись с трагедией настоящих разделений, богословы обратились к прошлому. Часто, например, они обращались к (мифической) неразделённой Церкви первого тысячелетия или даже более раннего периода. И в этом процессе они были вынуждены подвергнуть значительной переоценке свои собственные традиции. Так, они вступили в диалог с прошлым так же, как со своими современниками из других христианских традиций.
Православные богословы также не остались в стороне от этого двойного диалога, хотя они не всегда открыто признавали своё участие в нём, вместо этого утверждая, что они заново формулируют вечное учение Православной Церкви. Они внесли много значительных вкладов в него: от оригинальных трудов Флоровского и Лосского и вызывающе-влиятельного изложения «евхаристической экклесиологии» до синтетического труда митрополита Иоанна Зизиуласа и других современных писателей. Вместе с появлением экуменического движения возникает и чёткое выражение ими своей экклесиологии. Подобно своим римо-католическим и протестантским коллегам эти богословы столкнулись с нелёгкой задачей, оставаясь верными прошлому, в то же время обращаться к законным интересам и заботам настоящего. Практически это включает сознательный «возврат к первоисточникам» — прежде всего, к Писанию, литургии и отцам ранней Церкви — в уверенности, что эти источники могут отвечать и действительно отвечают на современные нужды Церкви и человечества в целом. И всё же, как показывает ограниченный успех стольких попыток по возобновлению и реставрации, такой «возврат» никогда не бывает лёгким или однозначным. Недостаточно просто знать и повторять данные источники. Их необходимо ввести в живой диалог с современным миром, чтобы наше богослужение и богословие не превратились в простое искусственное представление теперь уже исчезнувшего прошлого.
В данной работе у меня нет намерения представить в монолитном виде «православную позицию» по поводу экклесиологии, как будто Православная Церковь существовала в безвременном восточном вакууме. Напротив, я хотел бы в целом дать краткий очерк того, что внесли в современную дискуссию об экклесиологии православные богословы и канонисты. По ходу работы я дам краткую критическую оценку евхаристической экклесиологии, а затем в качестве исправительного средства предложу необходимость нового открытия экклесиологического значения крещения.
Позвольте мне начать с XIX века — века, который стал свидетелем появления современной «автокефальной церкви», века, когда православные клирики и богословы стали отвечать на вопросы, поставленные католичеством после I Ватиканского Собора, и вести диалог с англиканцами и некоторыми другими протестантскими деноминациями. Довод, приводимый в православной полемической и апологетической литературе, был примерно таков: Рим, ссылаясь на свою численность и географическую протяжённость и обращая внимание на видимое единство в лице Папы, утверждает, что он и является единой святой, соборной и апостольской Церковью. На самом деле, именно православные «сохранили Соборную Церковь как нетленную невесту для своего Жениха»,[1] ибо именно они содержат во всей своей чистоте веру «единой святой, соборной и апостольской Церкви семи Вселенских Соборов»[2] и сохраняют неизменной практику первого тысячелетия, когда «каждая поместная автономная церковь как на Востоке, так и на Западе, была полностью независимой и самоуправляемой» «местными синодами»[3]. Римляне оставили эту соборность, на которой настаивали древние каноны и церковная практика, в пользу «монархии» и «монополии даров Святого Духа».[4] Они довольно ошибочно претендуют на то, чтобы быть единой истинной Церковью. Единая истинная Церковь — это скорее Православная Церковь, такая общность автокефальных церквей, у которой есть только один истинный Глава, Иисус Христос.[5]
Всего лишь беглый взгляд на учебники по каноническому праву этого периода наводит на мысль о некоторых практических результатах такого взгляда на Церковь. Автокефальная церковь, точнее определяемая как «поместная церковь»,[6]
Недостатки подобного подхода к экклесиологии становились всё более очевидными в XX веке. Как и система суверенных национальных государств, по образцу которых во многих отношениях она строилась, система автокефальных церквей, развившаяся в XIX и начале XX века, не сумела удовлетворить требованиям, предъявлявшимся ей с тех пор. С одной стороны, обладание внутренним суверенитетом никоим образом не гарантировало духовного здоровья внутри автокефальной церкви. Слишком часто внутренняя жизнь автокефальной церкви ставилась под угрозу в различных отношениях, особенно когда неблагоприятные политические обстоятельства ограничивали её внутреннюю свободу. Также досадным было отсутствие эффективных структур для поддержания евхаристического общения (или даже просто связи) между автокефальными церквами. Результатом было взаимное равнодушие, отсутствие совместной деятельности и периодическая конфронтация по таким вопросам, как основание новых автокефальных или автономных структур. Так обстояло дело во время коммунистического господства в России и Восточной Европе. И что ещё более удивительно, всё это продолжило своё существование и после падения коммунизма. В настоящее время мы видим признаки сотрудничества — в виде редких встреч предстоятелей и возобновление подготовки к «Великому и Святому Собору Православной Церкви». Но пока всё ещё не существует взаимно принятой концептуальной модели для объяснения экклесиологической важности этих нарождающихся образований.
Особенно болезненным было положение так называемой «диаспоры». «Филетизм» (трайбализм [стремление к племенному обособлению], этницизм [этническая обособленность]) оставил заметный след на всей жизни современной Православной Церкви, несмотря на его осуждение как ереси Константинопольским собором 1872 года. Несколько православных церквей считали само собой разумеющимся или даже настаивали на том, что сохранение пастырского попечения о своих «чадах» за рубежом — это естественное и законное расширение их национальной идентичности и вполне находится в пределах их прав как автокефальных церквей. Результатом всего этого стало появление параллельных церковных юрисдикций, организованных по этническому принципу. Теперь они не только служат отличительным признаком «диаспоры», но и существуют в других регионах со смешанным населением, например, в Эстонии. Конечно, можно много хвалить «духовное» единство этих юрисдикций в учении, богослужении и церковном устройстве, но фактически само их существование не только противоречит основному каноническому принципу: один город/один епископ (8 канон I Никейского Собора), но и делает малоубедительными их претензии быть той самой единой, святой, соборной и апостольской Церковью, исповедуемой в Символе веры. Независимо от того, воплощён ли он в современной автокефальной церкви или в форме параллельных этнических юрисдикций, филетизм серьёзно скомпрометировал православное свидетельство в мире.
Подход к экклесиологии, характерный для православия XIX и начала XX вв., сейчас в основном подвергается сомнению в богословских кругах, хотя его продолжающееся влияние всё ещё ощущается в практике и официальных высказываниях различных автокефальных церквей. Его зависимость от языковых и мысленных образцов права и дипломатии уступала место более «церковному», более таинственному подходу, по мере того как богословы и канонисты заново открывали и пытались по-новому усвоить наследие ранней Церкви. Полагаю, основные направления их вклада в экклесиологию хорошо известны. Здесь мне нужно только дать их краткий очерк:
1. Чаще всего исходным пунктом была Евхаристия, или точнее такая Евхаристия, как она засвидетельствована в письмах св. Игнатия Антиохийского, Дидахе и в некоторых других избранных раннехристианских текстах. Евхаристия рассматривается не просто как одно из нескольких средств получения благодати, которое находится в распоряжении Церкви, понимаемой как Богом установленный орган, но как само основание церковной жизни. Только когда всё духовенство и верующие, с присущими им различными дарами, собраны вместе под председательством одного епископа, тогда Церковь воистину становится сама собой образом грядущего Царства.
2. Но даже когда Евхаристия свидетельствует об eschata [конечных вещах], ожидает их и участвует в них, собирая воедино верующих всех времён и всех мест и, конечно, всё творение в своей молитве, она совершается во времени и пространстве этого мира. До Второго пришествия Господа Евхаристия по необходимости местное событие, «помещённое» в особый контекст. И всё же на каждом местном отправлении Евхаристии присутствует весь Христос, а не просто часть Его, полное эсхатологическое собрание всех во Христе силою Святого Духа.
3. Следовательно, это местное евхаристическое собрание, хотя и не вся Церковь, является, тем не менее, всецело Церковью. В своём конкретном «месте» она является соборной Церковью, Церковью во всей своей полноте, а не просто частью Церкви. Тело Христово, храм Святого Духа, обладающий всеми существенными notae ecclesiae [признаками церкви], она является основной единицей, на которой должны строиться все последующие размышления, первичный опыт, лежащий в основании всякой попытки дать определение. Таким образом, Церковь, живущая в Коринфе, имеет то же единство, ту же полноту, что и Церковь, живущая в Иерусалиме, Антиохии, Риме… или в Нью-Йорке или Лондоне.
3. Это сущностное единство поместных церквей подразумевает сущностное единство и равенство их епископов. Следовательно, епископскую хиротонию не следует понимать как передачу власти от тех, кто её имеет, тому, у кого её нет, но скорее как обнаружение того факта, что божественный дар, который они получили в Церкви от Бога, теперь дан Богом этому епископу в этой Церкви.
4. Но равенство поместных церквей и епископов не означает единообразия, так же как в Троице единство сущности не исключает множества совершенно уникальных ипостасей. Каждая поместная Церковь уникальна; и из них некоторые могут «председательствовать в любви» (Игнатий, Rom. prol.). Много факторов может влиять на возможное первенство: древность и апостольская преемственность, слава мученичества и страдание за Христа, геополитические преимущества, размер, богатство. Но само председательство состоит не в том, чтобы иметь любые или все из этих элементов, но в том, чтобы делиться ими, сделать наследие одной Церкви — первой Церкви — наследием всех.
5. Излюбленный текст, приводимый в доказательство этого утверждения и цитируемый через исследование, — это 34 апостольское правило, с его осторожным соотношением соборности и первенства и его поразительным славословием Троицы:
Епископам всякого народа подобает знать первого у них и признавать его как главу и ничего, превышающего их власть, не творить без рассуждения: творить же каждому только то, что касается до его епархии и до мест, к ней принадлежавших. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо так будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец, Сын и Святой Дух.
6. Наконец, в Церкви, как и в Троице, единство основывается на любви, а не на внешнем законе или власти. Хотя первенствующая церковь, руководящая церковь, конечно, обладает нравственным авторитетом в силу своего верного свидетельства, у неё всё же нет юридической власти над другими церквами. Её единственная власть — и какая великая! — это власть любви, основанная на Святом Духе, источнике любви в Церкви, которая не требует, но скорее вызывает признание.
Широкие рамки такого подхода к экклесиологии можно наблюдать на примере многих православных богословов XX века, но его главные темы развивались различным образом. Здесь, возможно, полезно сравнить восторженно одностороннего Николая Афанасьева с дотошно уравновешенным Иоанном Зизиуласом.
Афанасьев, основоположник современной православной евхаристической экклесиологии, без оговорок настаивал на основном принципе, который большинство других сторонников евхаристической экклесиологии точнее определяли следующим образом: «Где есть Евхаристия, там полнота Церкви».[7] В практическом смысле это означало бы определение прихода как «местной церкви», как «основного церковного организма», хотя, как заметил о. Стэнли Гаракас, «это не было бы исключительным определяющим фактором. Евхаристия, которую служат на корабле, на конференции, в больнице или в тюрьме, на пикнике, в офисном здании или в гостиной [или, можно добавить, в одинокой тишине в некоем приделе], делает участников [или участника] поместной церковью».[8] В сознательном противостоянии «всеобщей экклесиологии», будь то в классической форме I Ватиканского Собора или в его современных православных версиях, Афанасьев делал акцент на качественном и глубинном аспекте соборности в отличие от его количественного и пространственного аспекта, и он обнаружил эту соборность как раз в Евхаристии поместной церкви. Он, следовательно, отказывался считать структуры, выходящие за пределы этой поместной церкви, такие, как первенство или соборы, существенными для её соборной жизни. Как сказано в одном из исследований, Афанасьев «борется со всяким видом мета-поместной соборности».[9] Фактически для него каждая поместная церковь не просто по существу равна всем другим, но и по существу та же самая, что и все другие. Что касается структур внутри «поместной церкви», Афанасьев рассматривает различные служения скорее как просто функциональные, чем онтологические по природе. Конечно, служение proestos необходимо, но просто потому, что кто-то должен председательствовать в евхаристической общине, а не потому, что это служение — основной фактор в Соборной Церкви. Для Афанасьева в евхаристической общине все, по сути, являются священниками, в равной степени и без различия. Таким образом, будь то среди церквей или внутри церквей, там есть глубинное сходство. Считается, что дифференциация и своеобразие ведут к разделению и изоляции.
Начиная с Афанасьева, православные богословы тщательно разрабатывали другие аспекты евхаристической экклесиологии, сохраняя её важнейшие интуиции. Самым важным среди них, конечно, был Иоанн Зизиулас, видный богослов и экуменист, ныне митрополит Пергамский. Наиболее заметным вкладом Зизиуласа в евхаристическую экклесиологию был его акцент на значении троического понятия лиц-в-общении как для жизни Церкви, так и для жизни христианина. По Зизиуласу, истинное личное бытие осуществляется только в общении. Троическая тайна различия в единстве переживается в тварной форме в евхаристической жизни Церкви, но она также отражается в общении, которое существует между церквами. Таким образом расширяя евхаристическую экклесиологию в экклесиологию кинонии, Зизиулас утверждает, споря с Афанасьевым, что «природа Евхаристии указывает не в направлении первенства поместной церкви, но в направлении одновременности как местного, так и всеобщего».[10]
Как и Афанасьев, Зизиулас утверждает, что «где есть Евхаристия, там Церковь», но он настаивает на том, что соборность поместной церкви, совершающей Евхаристию, обусловлено её общением с другими церквами. Изучая строй и установления, изложенные в древних правилах по поддержанию и развитию общения, Зизиулас различает два принципа: местные епископы/церкви не могут ничего делать без присутствия одного предстоятеля в данной области, но в то же время этот «один» не может ничего делать без «многих».[11] Другими словами, нет никакого служения или института единства — никакого первенства в Церкви, — которое не выражалось бы в форме общения, ибо Церковь по своей природе есть общение. Так же и внутри поместной церкви, один и многие являются дополнительными. Единство не исключает различия и дифференциации. Вернее, различение служений и даров внутри единого тела поместной церкви весьма важно для её соборного бытия. Поэтому Зизиулас настаивает на том, что «поместная Церковь как единица с полным экклесиологическим статусом есть епископская епархия, а не приход».[12] По его мнению, появление прихода во главе со священником «разрушило образ Церкви как общины, в которой необходимы все степени священства как составные элементы»,[13] в конечном итоге делая лишними как диакона, так и епископа и даже мирян. Сделав выбор в пользу епархии как основного церковного организма, говорит Зизиулас, «Православная Церковь неосознанно вызвала разрыв в своей собственной евхаристической экклесиологии». На данном этапе, сокрушается он, можно только надеяться, что «однажды епископ найдёт своё надлежащее место, которым является Евхаристия, и разрыв в евхаристической экклесиологии, вызванный проблемой «приход-епархия», будет исцелён…»[14]
Пожалуй, трудно переоценить важность вклада Зизиуласа в современное православное богословие. Он сформировал такую экклесиологию, которая и глубока, и оригинальна. И всё же страшно узнавать, что Церковь страдает от разрыва в своих наиболее жизненно важных структурах так серьёзно, что в течение большей части своего исторического существования (вероятно, с третьего или четвёртого века) она была только способна надеяться на восстановление должной целостности. Ещё страшнее находить, что лекарство, которое Зизиулас предлагает против этого настоящего падения, такое простое: «создание маленьких епископских епархий», которые «позволят епископам по-настоящему хорошо знать свою паству и быть знакомыми им» и, таким образом, «автоматически улучшить пастырское качество епископского управления»; которые «сократят административное бремя современных епископов и, таким образом, позволят им выполнять свои функции в первую очередь как председателей Евхаристии, что и является их служением по преимуществу»; которые «позволят возродиться коллегиальному характеру священства…» и т.д. Я задаюсь вопросом, довольно ли серьёзно размышлял Зизиулас и другие сторонники евхаристической экклесиологии над многообразием путей, по которым за века изменился контекст, в котором «помещена» Церковь. Слабость не в богословском видении Зизиуласа, но в анахронистическом подходе, согласно которому идеализированный церковный строй второго века взяли за образец во всех деталях для всех веков и ситуаций.
Здесь, пожалуй, было бы поучительным кратко рассмотреть, как за века изменились понятия «места» и, следовательно, значение слова «поместный».
Конечно, для мужчины и женщины древности их местом был, прежде всего, их город. Хотя город, возможно, был весьма маленьким по современным меркам, всё же значительное время после того, как Средиземное море стало римским озером, город продолжал формировать основную цель их верности и стремлений. В то же время он давал непосредственный опыт всех этнических, общественных, экономических и культурных расхождений, которые преследовали древний мир — различия между евреем и греком, между чужим и гражданином, между свободным и рабом, между образованными и необразованными, между возвышенными чувствами философов и жаждой крови на арене. Также именно посреди этого города мужчина или женщина древности узнавали о примирительном и созидательном деле Христа, обычно устно или через непосредственный пример, очень редко через чтение или другие средства массовой информации. Они также могли испытать это самым ясным образом в Церкви, где оно фактически проповедовалось и осуществлялось не просто внутри структур Церкви, но также самими ими. Средства проповеди и выполнения её были едины с их основным содержанием. Самым конкретным образом ранние христиане знали по опыту и в то же время выражали это совершенное единство в многообразии и многообразие в единстве, что делает невозможным отождествлять Церковь с конкретным классом, национальностью, особой группой по интересам, местностью или общиной.
А теперь рассмотрите положение сегодняшних мужчин и женщин. Как и человек древности, сегодняшний человек, возможно, живёт в городе, но сам этот факт не делает его человеком города. Вполне возможно, он только недавно приехал туда — из его родной деревни в поисках работы, или потому что его компания перевела его туда, или он прибыл туда как беженец. Но даже если он прожил всю свою жизнь в городе, главный предмет его верности связан с чем-то иным — с национальным государством или, вероятно, с одной из идеологий или экономических систем, которые стирали национальные и политические границы в последние десятилетия. Современный человек подвижен и не имеет корней до такой степени, которую невозможно представить в древности, и его город не имеет вида и имени до немыслимой в древности степени. Он может быть громадным, с населением из нескольких десятков миллионов, но в сравнении с древним городом у него почти совсем нет тождества. Это просто скопление отдельных личностей, у которых очень мало общих забот и интересов, разве что когда погодные условия становятся крайне тяжёлыми. Учитывая такое положение, вряд ли удивительно, что у сегодняшних мужчин и женщин нет никакого ясного восприятия своего «места», ибо фактически они одновременно живут в нескольких «местах». То, где они работают, спят или играют, могут разделять многие километры. Их чувство места раздроблено, как, впрочем, и их нравственное чувство. Поведение в офисе в центре города не имеет никакого обязательного отношения к поведению дома за городом.
Как в такой ситуации пробудить в людях стремление к единству, примирению и общению? Конечно, недостаточно будет просто объявить, что сегодняшняя «поместная церковь» — это «Соборная Церковь во всей своей полноте», если под словом «поместный» мы продолжаем мыслить географическую близость. Понятно и даже похвально, что православные канонисты и богословы, как, например, Зизиулас, должны подчёркивать принцип территориальности и отдавать приоритет географическому аспекту места. Но мы просто не можем допустить, что воссоздание церковного порядка второго века с меньшими епархиями и епископами, которые будут заниматься исключительно евхаристическим служением, решит современные наиболее злободневные проблемы. В древнем полисе географическая близость действительно влекла за собой соприкосновение с «соборным» поперечным сечением человечества. К тому же, евхаристическое устройство поместной церкви могло и действительно проповедовало и явно показывало победу Христа над разделениями этого падшего мира. Но то же самое устройство, бездумно копированное в нынешней глобальной деревне, вероятно, может стать средством сохранения и обострения этих разделений через отожествление Церкви с особыми интересами того или иного естественного, чисто человеческого сообщества — пригород среднего класса, фермерская деревня, городское гетто… Воспроизведение этого древнего устройства сегодня почти неизбежно приведёт к отсутствию общего свидетельства и действия на «более высоких» уровнях (народ, область и т.д.). Как минимум, это выльется в расточительное удвоение программ.
Сегодня требуются структуры для общения, общей деятельности и свидетельства, которые выходят за пределы дихотомии «местный» и «всемирный». В будущей Церкви такие территориальные единицы, как приход и епархия, несомненно, продолжат играть главную, а возможно, даже и преобладающую роль. Но сами по себе, даже если будут предприняты значительные усилия «сформировать чувство общины», они не будут испытывать и тем менее выражать соборность, пока не будут установлены эффективные средства общения с другими группами — с другими территориальными единицами, с которыми они состоят во взаимных и взаимодополняющих отношениях, а также с группами, которые не имеют общего территориального основания, не только с этническими, языковыми, экономическими и профессиональными группами, но также и с сервисными агентствами, группами поддержки, «анклавами общего образа жизни» (т.е. монашескими орденами), «группами взаимопомощи», группами «с ограниченными возможностями» и т.д.
В наш компьютерный век важна «связь» и «сетевое общение», но они также имели значение и в прошлом. Общение всегда было одним из самых важных аспектов епископского служения внутри его Церкви — более важным, поспорю я, чем простой факт председательства на Евхаристии. Епископ в древности сводил вместе различные особые группы по интересам городских верующих в евхаристическом собрании, но он сводил их вместе также и другими путями, особенно если его город был слишком велик (например, через устройство общего кладбища, через «спаривание» приходов, через стациональные литургии и т.д.).[15]внутрисреди них. Здесь соборное устройство было особенно важно, как не раз подчёркивали православные писатели. Но мы не должны упускать из виду особую роль, которую играли определённые епархии/епископы на постоянной основе — например, Константинопольская кафедра. То, что известно под 28 правилом Халкидонского Собора, поручало архиепископу Константинопольскому нести ответственность за рукоположение епископов «среди варваров». О возможной важности этого пункта сегодня велись жаркие дискуссии в кругах так называемой «диаспоры». Гораздо яснее его значение для раннего Средневековья. Константинополь отвечал за организацию церковной жизни среди кочевых племён к северу и востоку от Византийской империи и за координацию её с территориальными структурами их осёдлых соседей в Понтийском царстве, Азии и Фракии. В данном случае исключительно один епископ нёс ответственность за достойный надзор
«Где есть Евхаристия, там полнота Церкви». Я докажу, что эта формула Афанасьева не может быть принята без оговорок, если перед поместной церковью стоит задача быть полностью соборной. Как правильно указал Зизиулас и как даже сильнее подчёркивали другие сторонники экклесиологии кинонии [т.е. христианского братства], соборность поместной церкви обусловлена общением, и, следовательно, необходимы адекватные структуры для общения. Только таким образом может тайна единства-в-многообразии, одного и многих, быть эффективно осуществлена и явлена в мире и миру. Но мы также не можем придти к заключению, что «где есть структуры для общения, там есть полнота Церкви», как будто церковная соборность была просто продуктом её полной открытости для всякой ценности, её способности быть всеобъемлющей, её желания охватить всё богатое, но иногда беспокойное многообразие и разнообразие человеческого опыта и культуры, которое мы находим в нашем мире. По этому поводу Зизиулас вкратце замечает, что «спасительное явление Христа не просто одобряет человеческую культуру, но и критически относится к ней».[16] И он добавляет в примечании: «На это указывает тот факт, что крещение предшествует Евхаристии».[17] И здесь Зизиулас совсем кратко касается того, что большинство сторонников евхаристической экклесиологии совершенно не замечают, но что, по-моему, нуждается в более детальной разработке: Церковь — это евхаристический организм, но только потому, что Церковь — это крещальный организм.
Современная экклесиология, как и современная церковная практика, всё меньше уделяет внимания значению крещения. Акцент делался на евхаристическом братстве, и сравнительно мало говорилось о предпосылках для такого братства. Крещение, несомненно, признаётся необходимым; и катехизисы, и учебники богословия тщательно перечисляют его следствия. Но для многих, если не для большинства из нас, крещение — это то, что происходит в детстве и имеет мало постоянного значения в жизни, кроме того, что оно раньше или позже готовит человека к Евхаристии. У ранних христиан было более глубокое понимание его смысла и значения для Церкви. Вот как прекрасно Айдан Каванах излагает это:
Церковь во всём, что она есть и делает, воспринималась чрезвычайно разнообразной и в то же время единой. Не было и мысли, что она получила своё бытие только в воскресной Евхаристии или только в благотворительной работе среди бедных. Скорее, эти явления стали неизбежными и взаимосвязанными результатами жизни в общине веры, разделяемой под судом Слова Божия и в Духе Господа. Воспитывать людей жить таким образом и помогать им в этом деле и было ключевой задачей христианской общины. Она начиналась с катехизации, структуры, в которой чьё-либо обращение могло быть доведено до такой сильной степени, чтобы быть способным переносить бремя чьей-либо веры сообща. То, как это происходило, было через терапию обращения катехизиса и через посвящение в таинства…, единую дисциплину таинств, через которую и новообращённый ии общину.[18]
В наших церквах сегодня — по крайней мере, в Америке — мы много говорим о необходимости «созидания общины». Ранние христиане знали, что эта община не может быть ничем иным, как общиной веры. Отсюда важность катехизации. Это не было делом приобретения определённой жизненно важной информации, например, как опровергнуть filioque или объяснить паламитское различение сущности/энергии. Она включала полную переориентацию на жизнь, изгнание бесов и отречение от ложных богов, и, главным образом, traditio [лат. предание] и redditio [лат. воздаяние] — получение и возвращение — церковного исповедания веры. С этой точки зрения давний акцент православных на истинной вере как содержании соборности приобретает новый смысл. Это не означает простого сохранения символа веры и других аспектов учения семи Вселенских соборов как инертного вклада, что, по всей видимости, предлагала старая полемическая и апологетическая литература. Это означает умение сделать самого себя самим содержанием этой веры — откровение Пресвятой Троицы — и выразить это содержание во всех сторонах жизни. Флоровский был довольно прав, когда он заметил: «Церковь соборна в каждом из своих членов, потому что соборная целостность не может быть построена или включена каким-либо иным способом, кроме как соборностью её членов».[19] Вот что следует добавить здесь: эти члены становятся соборными только через христианское посвящение.
Систематические следствия крещения для экклесиологии, по-моему, дополнят и исправят евхаристическую экклесиологию (а в данном случае экклесиологию кинонии) и на деле позволят полнее и точнее выразить несколько из его самых важных прозрений, особенно как они были развиты Зизиуласом. Следующие наблюдения не являются строго систематическими, но они предлагают целый ряд исторических и экуменических соображений, которые, возможно, войдут в крещальную экклесиологию.
1. Евхаристическая экклесиология, как и многое другое из богословия XX века, приняло форму «возвращения к источникам». Она заявляет о своих правах на солидное историческое обоснование. И на самом деле, в своём диалоге с прошлым, защитники евхаристической экклесиологии пролили новый свет на источники с разных точек зрения. Им по праву принадлежит истинно творческое новое обретение Предания. Но защищая идеализированное церковное устройство второго века как норму во всех деталях для всех веков и положений, они иногда старались не замечать или приукрашивали свидетельства, не соответствующие этой модели или ставшие анахронизмом. Например, Афанасьев вообще не говорит о том факте, что, начиная с третьего или четвёртого века, приход с пресвитером во главе стал наиболее распространённым очагом христианской общины. Зизиулас признаёт эту действительность, но таким образом, чтобы сказать, что на протяжении большей части своего исторического существования Церковь страдала от раскола в своих жизненно важных структурах настолько серьёзно, что она была только способна надеяться на восстановление должного единства.
2. Евхаристическая экклесиология подчеркнула важность «поместной церкви», собранной в евхаристическом братстве. Но слишком легко такая община — как, впрочем, и любая община — может стать самодовольной, сосредоточенной на своём внутреннем мире, мало терпимой к разнообразию и с малой заботой о миссии. Почти по определению, приход носит провинциальный характер. Слишком легко он увековечивает или даже обостряет напряжённые отношения и разделения, по природе присущие нашему падшему состоянию, путём отожествления Церкви с отдельными интересами того или иного естественного, чисто человеческого сообщества. Как можно при таких условиях действенно передать церковную проповедь об искупительном объединении в одно целое, о её троичном смысле единства-в-разнообразии? Здесь может помочь более пристальное внимание к образовательным и преобразовательным сторонам введения в христианскую жизнь. В данном контексте, возможно, заслуживает внимания то, что даже после появления прихода во главе с пресвитером и фактического исчезновения епископской Евхаристии Церковь пыталась ясно показать своё соборное единство именно в своей практике посвящения в христианство. В Риме, например, развитие великопостной стациональной литургии, которая переносила епископа и его окружение из прихода в приход, кажется, было связано с необходимостью вовлечь оглашенных в жизнь всей Церкви, со всем её этническим и культурным многообразием. И в Константинополе намного позже того, как Евхаристия стала совершаться во множестве квази-частных церквей, крещение сохранили за katholike ekklesia [соборной/кафолической церковью], т.е. одной из сравнительно немногих епархиально-приходских церквей (59 Правило Трулльского Собора).
3. Зизиулас вместе с другими сторонниками евхаристической экклесиологии привлёк внимание к важности пневматологически обусловленной христологии для правильного понимания экклесиологии. В отличие от «христомонистических» подходов, которые обычно рассматривали Церковь главным образом с точки зрения её структур, установленных Христом в далёком прошлом, евхаристическая экклесиология обращает внимание на роль Духа в созидании Церкви в каждый новый момент или ситуации. Церковь, как подчёркивали многие православные богословы, живёт в продолжающемся состоянии эпиклезы, призывания Святого Духа. Она постоянно зависит от Духа в собирании и преображении человечества, раздробленного и разделённого в его нынешнем состоянии, в единое Тело Христа. Зизиулас и другие поясняли эту точку зрения, в основном ссылаясь на разнообразные пневматические элементы в православной евхаристической литургии, но её можно было бы гораздо убедительнее развить, если бы мы сперва взглянули на крещение, особенно на то, как крещение показано в древнейших восточных (сирийских) источниках, а только затем на Евхаристию, где наиболее заметные пневматические элементы (например, высокоразвитая эпиклеза) сравнительно позднего происхождения и, следовательно, их легче не принимать во внимание. В самом деле, можно даже доказать, что пневматические элементы в Евхаристии (а также некоторые другие элементы, такие, как Символ веры) ввели как раз для того, чтобы напомнить христианам о том, что они уже испытали раз и навсегда в крещении. Таким образом, хотя Евхаристия может воистину быть источником и вершиной церковной жизни, она также является средством укрепления и обновления дара крещения посреди продолжающихся злоключений этой земной жизни.
4. Не умея рассматривать Евхаристию в свете крещения, евхаристическая экклесиология слишком легко поддаётся духу триумфализма. Общераспространённые брошюры так часто говорят о Евхаристии как о пире Царства, как точке, в которой история пересекается с eschaton [концом времён], что легко потерять видение её преждевременной природы, забыть, что Евхаристия — это только предвкушение Царства, а не его последнее осуществление. Эта тенденция к осуществлённой эсхатологии затем проникает из Евхаристии в другие стороны церковной жизни, так что Церковь сама по себе начинает рассматриваться как совершенная во всех отношениях. Новый Завет и отцы, в общем, имеют гораздо более взвешенный подход. Они говорят о Церкви в динамичных образах, предполагая возможность роста и развития, а не просто в статических образах, предполагая уже достигнутое совершенство. (Обратите, например, внимание на Ерма, для которого Церковь — это башня, но башня строящаяся.) Исследование экклесиологического значения крещения поможет исправить настоящий дефицит баланса, напоминая нам, что крещение имеет жизненную важность не просто для отдельной личности, над которым оно совершается, но для Церкви в целом, которая видит себя в кающихся, оглашенных, готовящихся к крещению, новообращённых.
5. Наряду с триумфализмом, евхаристическая экклесиология слишком легко поддаётся тому, что получило имя «экклесиологической исключительности» (Hryniewicz). В некоторых из своих популярных изложений она склонялась к слишком жёсткому отожествлению границ Церкви с границами евхаристического братства Православной Церкви. На протяжении веков Православная Церковь действительно была способна и готова разглядеть элементы общности/koinonia за её каноническими пределами, но с середины XVIII века и позднее, отчасти в ответ на экклесиологическую и сотериологическую исключительность тридентского католичества, распространилось мнение, что в принципе таинственная жизнь — в том числе и крещение — существует только внутри Православной Церкви и что любое явное признание таинственной жизни «вне» Церкви — это дело икономии. Кажется, что в некоторых из своих выражений евхаристическая экклесиология проводит ту же жёсткую линию разграничения «внутри» и «извне». Она просто снова проводит эту линию вокруг Евхаристии. Рассмотрите, например, следующие отрывки из сравнительно недавнего выступления, объясняющие, почему Православные Церкви отвергают идею «интеркоммуниона» или «совместной Евхаристии».
Границы Тела Христова полностью зависят от евхаристической жизни. Вне этой жизни человечество управляется чуждыми силами. Разделение и разрушение могут предотвратить только те, кто соединяется во Христе и готовит себя для соединения Евхаристии.[20]
Кажется, подобные заявления не желают придавать никакого экклесиологического значения крещению независимо от того, совершается ли оно «вне» или «внутри». Для них почти нет разницы между тем, что находящиеся «вне» на деле показывают заметные признаки того нового отношения к Богу и миру, которое обычно ассоциируют с крещальной верой, и тем, что находящиеся «внутри» фактически мало чем отличаются от причащающихся язычников. Здесь имеет значение только «членство» в правильном евхаристическом братстве.
В начале данного исследования я привлёк внимание к тому факту, что работы XX века по экклесиологии были продуктом двустороннего диалога — диалога между богословами разных христианских традиций и диалога этих богословов со своими собственными традициями. Как показывают заявления, подобные только что цитированному, православные богословы остро осознавали свою собственную конфессиональную идентичность и верность своим убеждениям в диалоге с современниками, и они не колебались в своей критике других, когда казалось, что обстоятельства позволяют им занимать жёсткую позицию. Как показывают такие заявления, православные богословы не всегда в равной степени критично относились к своей собственной традиции и к своим собственным исходным предпосылкам. Более глубокое исследование экклесиологического значения крещения, пожалуй, дополнит много ценных прозрений, которые открыла евхаристическая экклесиология в мысли и практике ранней Церкви. Она может дать ряд предложений в области пастырского окормления паствы, чтобы укрепить внутреннюю жизнь Православных Церквей. Она также может предложить возможность поместить православный экуменический диалог на новом и, возможно, более здоровом основании.
Рассматривается как фундаментальный церковный организм, все меньшие органы которого — епархии, приходы — являются лишь его «частями». Автокефальная церковь образует как бы духовный аналог современного национального государства. Единая в учении, богослужении и принципах церковного порядка со своими сёстрами православными церквами, в своём собственном устройстве автокефальная церковь проявляет все признаки независимости: например, у неё есть право решать все внутренние проблемы своей собственной властью, независимо от всех других церквей (хотя, возможно, не от государства!), и у неё есть право назначать своих собственных епископов, включая главу церкви. Кроме того, своими действиями она освящает исключительные дары и «личность» данной нации для выработки Божьего плана для Вселенной, часто становясь самим носителем национальной идентичности. Требовались гибкость и творчество, как они требуются и сейчас. Но исторически общение было важно не только поместных церквей, но также и перед всей епископской корпорацией ради благосостояния всех церквей. И здесь опять соборное единство церквей выражалось не в единообразии, а в их дополнительном разнообразии и взаимности. община двигались в Духе от того, чем каждый был, к тому, чем каждый был способен стать под действием благодати в том же самом Духе — движение, пронзённое и болью и славой, утверждением и отречением, заклинанием и торжеством, движение к новой степени общения в вере, которое окончательно изменит и новообращённого.