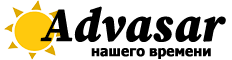Сразу скажу: так называемые «пилатовы главы» «Мастера и Маргариты» кощунственны. Это неинтересно даже обсуждать. Достаточно сказать, что Иешуа булгаковского романа умирает с именем Понтия Пилата на устах[1], в то время как Иисус Евангелия – с именем Отца. Любой христианин (а христианин – при максимально мягком и широком определении этого слова – это человек, который молится Христу) любой конфессии согласится с этой оценкой.
Вопрос в другом: а можно ли эту оценку («кощунство») перенести с «пилатовых глав» на весь роман в целом и на самого Булгакова?
Сербский исследователь М. Иованович настаивает, что «Евангелие по Воланду» оказывается одновременно и «Евангелием по Булгакову», и полагает, что «Булгаков писал свой роман с воландовых позиций»[2].
На мой взгляд, такое отождествление слишком жестоко и поспешно.
Впрочем, прежде, чем приводить аргументы, признаюсь, почему я стал их искать (в конце концов, разум всегда приводит лишь в ту точку, в которой ты назначаешь ему свидание).
Я полюбил эту книгу, когда она еще не входила в школьную программу. И мог страницами цитировать ее по памяти. Даже спустя пятнадцать лет после прочтения, впервые оказавшись в Иерусалиме, я смотрел на Город через булгаковские стихи (язык не поворачивается назвать прозой его описание грозы над Ершалаимом). Иначе было просто невозможно: я стоял на вершине Масленичной горы; внизу был Город, а с запада, (но не сверху, а вровень с глазами) надвигалась гроза. Ну как тут было не вспомнить: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды… Пропал Ершалаим – великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях…».
В общем, мне хотелось бы оправдать консерватизм своей любви. Имею ли я право продолжать с любовью относиться к булгаковской книге, несмотря на то, что за эти годы я стал ортодоксальным христианином? Может ли христианин не возмущаться этой книгой? Возможно ли такое прочтение булгаковского романа, при котором читатель не обязан восхищаться Воландом и Иешуа, при этом восхищаясь романом в целом? Воланд – оппонент автора или резонер, которому доверено озвучивать авторскую позицию? Возможно ли такое прочтение романа, при котором автор был бы отделён от Воланда?
Такую возможность отрицают школьные учебники по литературе. Что ж, пора выходить за порог слишком средней школы.
В ЗАЩИТУ ЧЕРНОВИКОВ
Прежде, чем приступать к изложению аргументов, стоит признаться в необычности по крайней мере некоторых из них.
В литературоведении принято опираться на итоговую, беловую авторскую рукопись. Если между беловиком, тем текстом, который автор передал в издательство и черновыми, более ранними, набросками есть расхождение, то предпочтение отдается именно позднейшему варианту. Вполне понятный и логичный принцип.
Но все же есть такие книги, к которым он не может быть вполне применим. Этот принцип не вполне приложим к произведениям подцензурной литературы. Если писатель работает в условиях жесткой внешней цензуры, то со временем он переходит к самоцензуре. Он уже по своему горькому опыту знает, что – можно, что -на грани допустимого, а что – просто невозможно. Он знает требования цензуры и вкусы конкретного цензора. И тогда он может сам подправлять свой текст накануне отдачи его в чужие руки. Пока писатель наедине со своим вдохновением – он просто искренен. И тогда каждый пишет как он дышит…[3] Но вот наступает пора, когда надо наступать на горло своей песне ради того, чтобы хоть что-то прохрипеть.
Булгаков писал свой последний роман в годы жесточайшей цензуры и уже имея огромный опыт продирания через нее. Он хотел видеть свой роман опубликованным.
За несколько дней до смерти в дневнике его жены Е. С. Булгаковой появляется запись: «6 марта 1940 г. Когда засыпал: «Составь список… список, что я сделал… пусть знают…». Был очень ласков, целовал много раз и крестил меня и себя – но уже неправильно, руки не слушаются.. Одно время у меня было впечатление, что он мучится тем, что я не понимаю его, когда он мучительно кричит. И я сказала ему наугад (мне казалось, что он об этом думает): «Я даю тебе честное слово, что перепишу роман, что я подам его, тебя будут печатать!» – А он слушал, довольно осмысленно и внимательно, и потом сказал: «Чтобы знали… чтобы знали»[4].
Список, о котором идет речь в начале этой записи – это список литературных и идейных врагов Булгакова[5]. И вот, вопреки обилию этих врагов, Булгаков все же хочет видеть свой роман опубликованным. И в романе он видит некоторое предупреждение читателю: «чтобы знали…».
Ради этого он переделывал роман, не только улучшая его, но и страха ради цензорского. В литературной сводке ОГПУ от 28 февраля 1929 говорится: «…Булгаков написал роман, который читал в некотором обществе, там ему говорили, что в таком виде не пропустят, так как он крайне резок с выпадами, тогда он его переделал и думает опубликовать, а в первоначальной редакции пустить в качестве рукописи в общество, и это одновременно с опубликованием в урезанном цензурой виде»[6]. В дневнике Е. С. Булгаковой (осень 1937 года): «Мучительные поиски выхода… откорректировать ли роман и представить?.. Миша правит роман»[7].
Были ли шансы на публикацию? Иногда казалось, что – да. В ноябре 1936 года постановка шуточной оперы А. Бородина «Богатыри» Камерным театром (с текстом Демьяна Бедного) была заклеймлена советской прессой «за глумление над крещением Руси». Е. С. Булгакова отмечает в дневнике: «Я была потрясена!»[8]. Булгаков же настолько вдохновлен этим, что в том же месяце делает набросок либретто «О Владимире», обращаясь к теме крещения Руси[9].
Вообще, когда в 1928 году Булгаков начинал свой «роман о дьяволе»[10], в советской литературе дьявол считался вполне приемлемым и обычным персонажем. Ничего шокирующего в том, что советский писатель вдруг вводит в повествование черта, тогда не было.
В воспоминаниях Л.Е. Белозерской-Булгаковой рассказывается о знакомстве М. Булгакова с повестью А.В. Чаянова «Венедиктов, или достопамятные события жизни моей» (М., 1922). Оформляла книгу Н. Ушакова, дружившая с семьей Булгаковых, она и подарила экземпляр книги Михаилу Афанасьевичу. Итак, «Н. Ушакова, иллюстрируя книгу, была поражена, что герой, от имени которого ведется рассказ, носит фамилию Булгаков. Не менее был поражен этим совпадением и Михаил Афанасьевич. Все повествование связано с пребыванием Сатаны в Москве, с борьбой Булгакова за душу любимой женщины, попавшей в подчинение к Дьяволу… С полной уверенностью я говорю, что небольшая повесть эта послужила зарождением замысла, творческим толчком для написания романа «Мастер и Маргарита»«[11].
Герой повести студент-второкурсник Московского Университета Булгаков возвращается в Москву из Коломенского: «Вступив в город, почувствовал я внезапно гнет над своей душой необычайный. Казалось, потерял я свободу духа и ясность душевную безвозвратно и чья-то тяжелая рука опустилась на мой мозг, раздробляя костные покровы черепа… Весь былой интерес к древностям славяно-русским погас в душе моей… Я чувствовал в городе чье-то несомненное жуткое и значительное присутствие. Это ощущение то слабело, то усиливалось необычайно, вызывая холодный пот на моем лбу и дрожь в кистях рук,— мне казалось, что кто-то смотрит на меня и готовится взять меня за руку. Чувство это, отравлявшее мне жизнь, нарастало с каждым днем, пока ночью 16 сентября не разразилось роковым образом, введя меня в круг событий чрезвычайных. Была пятница. Я засиделся до вечера у приятеля своего Трегубова, который, занавесив плотно окна и двери, показывал мне «Новую Киропедию» и говорил таинственно о заслугах московских мартинистов[12]. Возвращаясь, чувствовал я гнет нестерпимый»[13].
Тот, кто в повести Чаянова овладел душой Булгакова, был не дьяволом, а человеком, прошедшим посвящение у лондонских вельможных сатанистов. У них в карточной игре он выиграл души нескольких москвичей. Можно представить, как потрясли М. Булгакова слова, сказанные чаяновским «коровьевым»: «Беспредельна власть моя, Булгаков, и беспредельна тоска моя; чем больше власти, тем больше тоски». Впрочем, и он смог остановиться, когда с иконы «Спасов лик строго глянул мне в душу»…
Чаянова арестовали в 1930 году (не за повесть, а в связи с процессом «промпартии»). В литературе же за двадцать лет советской власти каноны «социалистического реализма» уже определились. Старый черт должен был уступить место старому рабочему.
И чтобы в конце 30-х годов опубликовать «Мастера и Маргариту», надо было многое в тексте спрятать от поверхностных читателей и цензоров… А потому обращение к ранним редакциям оказывается необходимым для понимания итогового текста.
Разные редакции, отражающие разные этапы работы Булгакова над текстом «Мастера и Маргариты», принято обозначать так:
Черный маг (1928-1929)
Копыто инженера (1929-1930)
Великий канцлер (1932-1936)
Князь тьмы (1937)
Вторая полная рукописная редакция романа (1938).
«Мастер и Маргарита» становится названием этого произведения только в 1938 году. Возможно, в порядке самоцензурной смягчающей правки.
БУЛГАКОВ И ВЕРА
Так был ли сам Булгаков богоборцем, атеистом-кощунником?
У Булгакова было церковное детство. Оба его деда были священниками, а отец, Афанасий Иванович Булгаков (1857-1907), — профессором Киевской Духовной Академии, оставившим ряд монографий по сравнительному богословию[14]. Крестный отец Михаила – профессор Киевской духовной академии Н. И. Петров, несмотря на большую разницу в их возрасте, был позже другом своего крестника. Венчал Михаила Афанасьевича святой новомученик протоиерей Александр Глаголев (он, кстати, тоже был богословом и выступал экспертом по делу Бейлиса). Знаменитый богослов протоиерей Сергий Булгаков также находился в родстве с Михаилом Афанасьевичем.
И все же уже через три года после смерти отца (т.е. в 1910 году) его сестра Надежда записывает в своем дневнике: «Миша не говел в этом году. Окончательно, по-видимому, решил для себя вопрос о религии – неверие»[15]. Он не носил нательного крестика[16]. Были и увлечения наркотиками. Его первой жене пришлось делать аборт еще до венчания… Не стоит удивляться, что он давал довольно едкие зарисовки из церковно-приходской жизни. Свидетельства о его участии в литургической жизни Церкви мне не попадались.
И все же то, что казалось окончательным 18-летнему подростку в 1910 году, потом менялось.
Как пишет биограф писателя – «тому, кто размышляет над биографией и творчеством Булгакова, всегда надо иметь в виду: что бы ни происходило со старшим сыном доктора богословия в первые годы после смерти отца и в последующие десятилетия – все это воздвигалось на фундаменте, заложенном в детстве: он был уже невынимаем»[17].
Одной из причин разрыва с первой женой (Татьяной Николаевной) было ее откровенно враждебное отношение к религии[18]. Третья же его жена – Елена Сергеевна Булгакова – вспоминала: «Верил ли он? Верил, но, конечно, не по-церковному, а по своему. Во всяком случае, когда болел, верил – за это я могу поручиться»[19].
Рудиментарная церковность в его доме сохранялась: была и Рождественская (а не новогодняя) елка для детей[20], была и молитва: «31 января 1934. Кончается год. И вот, проходя по нашим комнатам, часто ловлю себя на том, что крещусь и шепчу про себя: Господи! Только бы и дальше так!» (Дневник Е. С. Булгаковой)[21].
И до хулы на Бога и Церковь Булгаков все же никогда не доходил. Ему пробовали заказывать антирелигиозные пьесы – и он отказывался (и это в 1937 году!)[22].
Вот булгаковский дневник: «19 октября 1922. Итак, будем надеяться на Бога и жить. Это единственный и лучший способ… 26 октября 1923. Нездоровье мое затяжное. Оно может помешать мне работать. Вот почему я боюсь его, вот почему я надеюсь на Бога… 27 октября 1923. Помоги мне, Господи»[23]. «Каждое утро воссылаю моленья о том, чтобы этот надстроенный дом простоял как можно дольше – качество постройки несколько смущает»[24]. «В конце жизни пришлось пережить еще одно разочарование – во врачах-терапевтах… А больше всего да поможет нас всем больным Бог!»[25].
«Помоги, Господи, кончить роман», — так был надписан Булгаковым один из черновых набросков к главам романа в 1931 году[26].
Есть и личное признание Булгаковым после-смертия. С. Ермолинский передал слова Булгакова, сказанные ему в 1940 году: «Мне мерещится иногда, что смерть – продолжение жизни. Мы только не можем себе представить, как это происходит… Я ведь не о загробном говорю, я не церковник и не теософ, упаси Боже. Но я тебя спрашиваю: что же с тобой будет после смерти, если жизнь не удалась тебе? Дурак Ницше… (Он сокрушенно вздохнул). Нет, я кажется, окончательно плох, если заговорил о таких заумных вещах. Это я-то?..»[27].
Михаил Булгаков в стихах своего брата Николая[28] отмечает строки, в которых выражается православное верование во «встречного ангела» – «ангела смерти»:
Войдешь без слов, мой гость случайный.
Как зачарованный вопьюсь
Глазами в лик необычайный.
Скажу – готов и не боюсь.
Комментарий Михаила Афанасьевича: «Скажу – готов и не боюсь. Верно и сильно»[29].
Так что Булгаков, пожалуй, не был повинен в том грехе, который вызывал наибольшее отвращение у Данте: «Я утверждаю, что из всех видов человеческого скотства, самое глупое, самое подлое и самое вредное верить, что после этой жизни не будет другой» (Данте. Пир 2,8)[30].
Но более, чем скупые записи дневников, в том, что у Булгакова был опыт искренней молитвы, убеждают его книги.
Вспомним последние строки «Белой гвардии»: «Перед Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно. «И увидал я мертвых и великих, стоящих перед богом и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим… И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное… И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет». По мере того как он читал потрясающую книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму. Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов: «…слезу с очей, и смерти не будет, уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло»… Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали огоньки, и они проступали на завесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла – слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч. Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?».
Кто этот Русаков, последний человек в «Белой гвардии»? Это человек, в жизни которого была покаянная ночь:
«Сифилитик говорил, и губы у него прыгали, как у ребенка.
— Боже мой, боже мой, боже мой… Ужас, ужас, ужас… Ах, этот вечер! Я
несчастлив. Ведь был же со мной и Шейер, и вот он здоров, он не заразился, потому что он счастливый человек. Может быть, пойти и убить эту самую Лельку? Но какой смысл? Кто мне объяснит, какой смысл? О, господи, господи… Мне двадцать четыре года, и я мог бы, мог бы… Пройдет пятнадцать лет, может быть, меньше, и вот разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, а потом – я гнилой, мокрый труп. Обнаженное до пояса худое тело отражалось в пыльном трюмо, свеча нагорала в высоко поднятой руке, и на груди была видна нежная и тонкая звездная сыпь. Слезы неудержимо текли по щекам больного, и тело его тряслось и колыхалось. – Мне нужно застрелиться. Но у меня на это нет сил, к чему тебе, мой бог, я буду лгать? К чему тебе я буду лгать, мое отражение? Он вынул из ящика маленького дамского письменного стола тонкую книгу, отпечатанную на сквернейшей серой бумаге. На обложке ее было напечатано красными буквами:
ФАНТОМИСТЫ – ФУТУРИСТЫ.
Стихи: М. ШПОЛЯНСКОГО. Б. ФРИДМАНА. В. ШАРКЕВИЧА. И. РУСАКОВА. Москва, 1918
На странице тринадцатой раскрыл бедный больной книгу и увидал знакомые строки:
Ив.Русаков
БОГОВО ЛОГОВО
Раскинут в небе
Дымный лог.
Как зверь, сосущий лапу,
Великий сущий папа
Медведь мохнатый
Бог.
В берлоге
Логе
Бейте бога.
Звук алый
Беговой битвы
Встречаю матерной молитвой.
— Ах-а-ах, – стиснув зубы, болезненно застонал больной. – Ах, —
повторил он в неизбывной муке. Он с искаженным лицом вдруг плюнул на страницу со стихотворением и бросил книгу на пол, потом опустился на колени и, крестясь мелкими дрожащими крестами, кланяясь и касаясь холодным лбом пыльного паркета, стал молиться, возводя глаза к черному безотрадному окну: – Господи, прости меня и помилуй за то, что я написал эти гнусные слова. Но зачем же Ты так жесток? Зачем? Я знаю, что Ты меня наказал. О, как страшно Ты меня наказал! Посмотри, пожалуйста, на мою кожу. Клянусь Тебе всем святым, всем дорогим на свете, памятью мамы-покойницы – я достаточно наказан. Я верю в Тебя! Верю душой, телом, каждой нитью мозга. Верю и прибегаю только к Тебе, потому что нигде на свете нет никого, кто бы мог мне помочь. У меня нет надежды ни на кого, кроме как на Тебя. Прости меня и сделай так, чтобы лекарства мне помогли! Прости меня, что я решил, будто бы Тебя нет: если бы Тебя не было, я был бы сейчас жалкой паршивой собакой без надежды. Но я человек и силен только потому, что Ты существуешь, и во всякую минуту я могу обратиться к тебе с мольбой о помощи. И я верю, что Ты услышишь мои мольбы, простишь меня и вылечишь. Излечи меня, о Господи, забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия, пьяный, под кокаином. Не дай мне сгнить, и я клянусь, что я вновь стану человеком. Укрепи мои силы, избавь меня от кокаина, избавь от слабости духа и избавь меня от Михаила Семеновича Шполянского!».
Так описать покаянное рыдание мог только человек, которому оно знакомо по личному опыту…
Хрестоматийным стало уже описание молитвы Елены над раненым Алексеем Турбиным в той же «Белой гвардии».
«Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у них двадцать четвертого декабря в сумерки, а вечером дробящимися, теплыми огнями зажигались в гостиной зеленые еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф все сбили и спутали, ускорили жизнь и появление света лампадки. Елена, прикрыв дверь в столовую, подошла к тумбочке у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла огонек в тяжелой цепной лампаде, висящей перед старой иконой в тяжелом окладе. Когда огонек созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом Богоматери превратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова, наклоненная набок, глядела на Елену. В двух квадратах окон стоял белый декабрьский, беззвучный день, в углу зыбкий язычок огня устроил предпраздничный вечер, Елена слезла со стула, сбросила с плеч платок и опустилась на колени. Она сдвинула край ковра, освободила себе площадь глянцевитого паркета и, молча, положила первый земной поклон… Елена с колен исподлобья смотрела на зубчатый венец над почерневшим ликом с ясными глазами и, протягивая руки, говорила шепотом: – Слишком много горя сразу посылаешь, мать-заступница. Так в один год и кончаешь семью. За что?.. Мать взяла у нас, мужа у меня нет и не будет, это я понимаю. Теперь уж очень ясно понимаю. А теперь и старшего отнимаешь. За что?.. Как мы будем вдвоем с Николом?.. Посмотри, что делается кругом, ты посмотри… Мать-заступница, неужто ж не сжалишься?.. Может быть, мы люди и плохие, но за что же так карать-то? Она опять поклонилась и жадно коснулась лбом пола, перекрестилась и, вновь простирая руки, стала просить: – На тебя одна надежда, пречистая дева. На тебя. Умели Сына своего, умоли Господа бога, чтоб послал чудо… Шепот Елены стал страстным, она сбивалась в словах, но речь ее была непрерывна, шла потоком. Она все чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтоб сбить назад выскочившую на глаза из-под гребенки прядь. День исчез в квадратах окон, исчез и белый сокол, неслышным прошел плещущий гавот в три часа дня, и совершенно неслышным пришел Тот, к Кому через заступничество смуглой девы взывала Елена. Он появился рядом у развороченной гробницы, совершенно воскресший, и благостный, и босой. Грудь Елены очень расширилась, на щеках выступили пятна, глаза наполнились светом, переполнились сухим бесслезным плачем. Она лбом и щекой прижалась к полу, потом, всей душой вытягиваясь, стремилась к огоньку, не чувствуя уже жесткого пола под коленями. Огонек разбух, темное лицо, врезанное в венец, явно оживало, а глаза выманивали у Елены все новые и новые слова. Совершенная тишина молчала за дверями и за окнами, день темнел страшно быстро, и еще раз возникло видение – стеклянный свет небесного купола, какие-то невиданные, красно-желтые песчаные глыбы, масличные деревья, черной вековой тишью и холодом повеял в сердце собор. – Мать-заступница, – бормотала в огне Елена, – упроси его. Вон он. Что же тебе стоит. Пожалей нас. Пожалей. Идут твои дни, твой праздник. Может, что-нибудь доброе сделает он, да и тебя умоляю за грехи. Пусть Сергей не возвращается… Отымаешь, отымай, но этого смертью не карай… Все мы в крови повинны, но ты не карай. Не карай».
Итог его религиозного пути Михаила Булгакова мы уже видели: за три дня до смерти, «6 марта 1940 г. Был очень ласков, целовал много раз и крестил меня и себя – но уже неправильно, руки не слушаются…» [31].
Таков последний плод его религиозности. Но перед этим, уже во дни последней и мучительной болезни духовная брань у Михаила Афанасьевича была страшная. Он несколько раз просил дать ему револьвер (хотел пойти путем самострельной «эвтаназии»[32]). Он порывался сжечь роман (и реально сжигал весь роман в марте 1930, а отдельные страницы и главы – и позже). «1 октября 1939 г. Разбудил в семь часов – невозможная головная боль. Не верит ни во что. О револьвере. Слова: отказываюсь от романа. Отказываюсь от всего, отказываюсь от зрения, только чтобы не болела так голова»[33]. И все же – устоял.
А теперь я предлагаю с духовной (или с мистической – так понятнее светскому читателю) точки зрения посмотреть на эти два эпизода: Булгаков порывается сжечь свой роман и Булгаков все же посылает свой роман в мир. Какой из этих двух его импульсов от лукавого? В одном случае Булгаков порывается покончить с собой, в другом случае он осеняет себя и жену крестным знамением. Может ли первое быть от Бога, а второе – от «воланда»? – Нет. Но тогда получается, что тот дух, что подталкивал Булгакова к самоубийству, он же и требовал уничтожения рукописи «романа о дьяволе». А та Сила, что дала Булгакову возможность совершить последние движения и произнести последние слова, то есть та сила Сила, которая вдохновила его на крестное знамение, она же и дала ему возможность благословить свой роман.
Племянница Михаила Булгакова Е. А Земская свидетельствует о том, что он был ее крестным (в 1926 году). Также Елена Андреевна вспоминает о заочном отпевании Михаила Афанасьевича в церкви на Остоженке[34] (очевидно, это храм св. Илии Обыденного – ближайший действующий храм к тому месту, где был снесен Храм Христа Спасителя). В семейном предании совмещение заочного отпевания с кремацией, на которой настоял сам Булгаков, объясняется тем, что писатель избрал кремацию, чтобы не повредить близким. Показательны слова Е. С. Булгаковой: «многие меня упрекали – как я могла так хоронить верующего человека»[35].
БУЛГАКОВ И БЕЗВЕРИЕ
5 января 1925 года Булгаков записал в своем дневнике: «Сегодня специально ходил в редакцию «Безбожника». Был с М[ишей] С[тоновым], и он очаровал меня с первых же шагов. – Что, вам стекла не бьют? – спросил он у первой же барышни, сидящей за столом – То есть как это (растерянно). Нет, не бьют (зловеще). – Жаль. – Хотел поцеловать его в его еврейский нос… Тираж, оказывается, 70 000, и весь расходится. В редакции сидит неимоверная сволочь, выходит, приходит; маленькая сцена, какие-то занавесы, декорации… На столе, на сцене, лежит какая-то священная книга, возможно, Библия, над ней склонились какие-то две головы. «Как в синагоге», — сказал М., выходя со мной… Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне… Соль в идее: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены»[36].
На обложке первого номера «Безбожника» было напечатано: «С земными царями разделались, принимаемся за небесных». Передовица Н. И. Бухарина – «На борьбу с международными богами»: «Русский пролетариат сшиб, как известно, корону царя. И не только корону, но и голову. Немецкий — свалил корону с Вильгельма, но голова, к сожалению, осталась. Австрийский рабочий добрался до короны, не добрался до головы, но король сам испугался и от испуга умер. Недавно греки сшибли еще одну корону. Словом, на земле на этот счет не приходится сомневаться: рискованное дело носить это украшение. Не совсем так обстоит дело на небе,.. Международные боги… еще очень сильны… Так дальше жить нельзя! Пора добраться и до небесных корон, взять на учет кое-что на небе. Для этого нужно прежде всего начать с выпуска противобожественных прокламаций, с этого начинается великая революция. Правда, у богов есть своя армия и даже, говорят, полиция: архистратиги разные, Георгии Победоносцы и прочие георгиевские кавалеры. В аду у них настоящий военно-полевой суд, охранка и застенок. Но чего же нам-то бояться? Не видали мы, что ли, этаких зверей и у нас на земле? Так вот, товарищи, мы предъявляем наши требования: отмена самодержавия на небесах; … выселение богов из храмов и перевод в подвалы (злостных — в концентрационные лагеря); передача главных богов, как виновников всех несчастий, суду пролетарского ревтрибунала».
В Энциклопедическом словаре братьев Гранат Николай Иванович Бухарин поместил свою автобиографию, в которой сообщал, с какого возраста он начал борьбу «с богами»:
В 10 лет «я окончательно разделался с религией. Внешне это выразилось в довольно озорной форме: я поспорил с мальчишками, у которых оставалось почтение к святыням, и принес за языком из церкви «тело христово», победоносно выложив оное на стол. Не обошлось и без курьезов. Случайно мне в это время подвернулась знаменитая «лекция об Антихристе» Владимира Соловьева, и одно время я колебался, не антихрист ли я. Так как я из Апокалипсиса знал, что мать антихриста должна быть блудницей, то я допрашивал свою мать – не блудница ли она, что, конечно, повергало ее в величайшее смущение»[37].
…В «Мастере и Маргарите» есть крупный советский чиновник по имени Николай Иванович – он превращается в борова…[38]
А было еще и поэтическое леваческое хамство:
Елки сухая розга маячит в глазища нам,
По шапке Деда Мороза, ангела по зубам!
(Семен Кирсанов; стихи в «Комсомольской правде» к Рождеству 1928 года)
Твердь, твердь за вихры зыбим
Святость хлещем свистящей нагайкой
И хилое тело Христа на дыбе
Вздыбливаем в Чрезвычайке.
Что же, что же, прощай нам, грешным,
Спасай, как на Голгофе разбойника, —
Кровь Твою, кровь бешено
Выплескиваем, как воду из рукомойника.
(А. Мариенгоф).
Похоже, что с Булгаковым произошло то же, что и со многими другими русскими интеллигентами 20-х годов. Русской интеллигенции вообще трудно быть рядом с властью. Комфортнее она чувствует себя в оппозиции. Пока православие было государственной религией, интеллигенция ворчала на Церковь и скликала «буревестников революции». Но когда стаи этих стервятников слетелись и явили свое хамское мурло, когда революционно-атеистическая инквизиция показала, что решимости, напора и требовательности у нее куда как больше, чем у старой церковно-монархической цензуры, тут уже и для интеллигенции настала пора «смены вех».
Показательным было поведение знаменитого физиолога академика Павлова. Он до конца жизни оставался атеистом. Но при советской власти он стал носить царский мундир и креститься, проходя мимо православных храмов…
«Из воспоминаний знаменитого ученика Павлова академика Л. А. Орбели. Когда Павлова избрали председателем Общества русских врачей он первым делом настоял на том, чтобы отменили панихиду в память о С. П. Боткине, с которой начиналось ежегодное заседание:
— Черт его знает, что за манера завелась у нас ни с того ни с сего служить панихиду? Мы ученые и собираемся почтить память ученого, а тут вдруг почему-то панихида.
Пришли, как всегда, не только врачи, но и родные Боткина, привыкшие к обычному ритуалу. Но начались слушания – и никакой панихиды. Родственники ушли разочарованные, и на другой день Павлов каялся:
— Какого я дурака свалял вчера! Как я не подумал! Мне не хотелось нюхать ладан, а я не подумал о том, что чувствуют члены семьи. Ведь они же пришли не доклады наши слушать! Они привыкли, что мы посвящаем заседание памяти Боткина, служим панихиду. Они же верующие люди. Я неверующий, но должен же я считаться с чувствами верующих! Никогда себе этого не прощу! Я это понял, как только увидел лицо вдовы.
И другой случай. Павлова посетил почтенный старик, врач, его товарищ по Медико-Хирургической академии. Сотрудники слышали, что разговор сначала шел мирно, а потом вдруг послышались крики Павлова. Старик ушел, а Павлов объяснил:
— Черт его знает. Всегда приходил, вспоминал приятно студенческие годы, а тут вдруг спрашивает: «Как ты относишься к загробной жизни?» Я говорю: «Как отношусь? Какая загробная жизнь?» – «А все-таки, как ты думаешь – загробная жизнь существует или не существует?» Сначала я ему спокойно объяснял, а потом мне надоело: «Как тебе не стыдно! Ты же врач, а говоришь такие глупости!»
На следующий день Павлов пришел мрачный:
— Что я наделал! Ведь этот доктор ночью покончил с собой! А я, дурак, не учел того, что у него недели три как умерла жена, он искал себе утешения, надеялся встретиться с душой умершей. А я оборвал его… Все-таки нужно же немного думать не только о своих мыслях, но и о других людях.
Храмы же он посещал – в особенности после революции – потому, что внимательно относился к своей религиозной жене. Да и сам, будучи сыном священника, любил иногда послушать церковное пение, так знакомое с детства.
А еще для того, чтобы позлить атеистов-большевиков, которых весьма не любил, и помочь своим авторитетом гонимым верующим, которым, естественно, сочувствовал.
На вопросы анкеты архиепископа Кентерберийского академик Павлов ответил так:
«Верите ли Вы в Бога или нет?» – «Нет, не верю».
«Считаете ли Вы религию совместимой с наукой или нет?» – «Да, считаю».
Когда ученики подступили к нему с вопросом, как же согласуются эти ответы, он объяснил:
— Целый ряд выдающихся ученых были верующими, значит – это совместимо. Факт есть факт и нельзя с ним не считаться».[39]
«Павлов протестовал против сноса Троицкого собора, отказался от кафедры в Военно-медицинской академии в знак протеста против изгнания из числа студентов детей священников и т.д. В воспоминаниях М. К. Петровой, ближайшей сотрудницы и друга И.П. Павлова, приведены такие слова Павлова: «Человеческий ум ищет причину всего происходящего, и когда он доходит до последней причины, это есть Бог. В своем стремлении искать причину всего он доходит до Бога. Но сам я не верю в Бога, я неверующий». Ходил Павлов в церковь «не из религиозных побуждений, а из-за приятных контрастных переживаний. Будучи сыном священника, он еще в детстве любил этот праздник (речь идет о Пасхе). Он объяснял эту любовь особенно радостным ощущением праздничных дней, следующих за Великим Постом». А защищал Павлов верующих и церковь из вполне понятных соображений о справедливости и свободе совести, протестуя против большевистского варварства»[40].
«В своем последнем слове у могилы мужа Серафима Васильевна говорила, что он был неверующим, и вся его работа была направлена на отрицание религии. Имеющиеся в многочисленных архивах документы, высказывания самого Ивана Петровича и друзей, близко знавших Павлова, вроде бы свидетельствуют: мэтр не верил в Бога. Вот что по этому поводу в 1923 году сказал сам Иван Петрович в беседе с будущим академиком Е. М. Крепсом. «Почему многие думают, что я верующий человек, верующий в смысле религиозном? Потому, что я выступаю против гонения на религию. Я считаю, что нельзя отнимать веру в Бога, не заменив ее другой верой. Большевику не нужно веры в Бога, у него есть другая вера – коммунизм… Другую веру приносят людям просвещение, образование, вера в Бога сама становится ненужной». В письме в Совнарком он писал: «По моему глубокому убеждению, гонение нашим правительством религии и покровительство воинствующему атеизму есть большая и вредная последствиями государственная ошибка… Религия есть важнейший охранительный инстинкт, образовавшийся, когда животные превратились в человека, сознающего себя и окружающие существа, и имеющая огромное жизненное значение»«[41].
Хамская безбожная официальная пропаганда претила и другому «поповичу» – Михаилу Булгакову. Л. Е. Белозерская вспоминает, что в конце 20-х годов среди друзей Булгакова был художник-карикатурист М. Черемных. Однако, по ее свидетельству, «отношение Булгакова к Черемныху было двойственное: он совершенно не разделял увлечения художника антирелигиозной пропагандой (считал это примитивом) и очень симпатизировал ему лично»[42].
Шок от знакомства с журналом «Безбожник» по мнению некоторых исследователей «Мастера и Маргариты», сказался и в выборе фамилии сатанинского служки – Коровьева. Именно тот номер «Безбожника», что вышел в январе 1925 года (то есть в месяц посещения Булгаковым редакции этого журнала), назывался: «Безбожник. Коровий». Редакция так поясняла столь странное название: «Журнал наш – журнал крестьянский… Поэтому пишем мы и о здоровье коровьем, и о том, как знахари и попы людей морочат и скот губят»[43].
Как известно, булгаковский Коровьев «однажды неудачно пошутил». Но если его шутка имела столь многовековые, вечные последствия, то она касалась религии. Также трудно не согласиться с Л. Яновской, когда она замечает, что «вряд ли Воланд наказывает своего верного рыцаря, чье место непосредственно рядом с ним, за неудачу каламбура»[44]. Наказан Коровьев не Воландом, а вышученным им Светом.
Ближайший же литературный аналог «неудачной шутки» – Сансон Карраско. В булгаковской инсценировке племянница Дон Кихота просит своего возлюбленного (Карраско) вернуть дядю домой. Для этого Карраско переодевается «рыцарем Белой Луны», вызывает Дон Кихота на поединок и ставит условие: проигравший возвращается домой и более не мнит себя рыцарем.
После поражения Дон Кихот клянется «никуда больше не выезжать и подвигов не совершать»[45], возвращается домой, пробует жить «как все». И умирает от тоски… «Ах, Санчо, Санчо! Повреждения, которые нанесла мне его сталь, незначительны. Также и душу мою своими ударами он не изуродовал. Я боюсь, не вылечил ли он мне мою душу, а вылечив, вынул ее, но другой не вложил. Смотри, солнце срезано наполовину, земля поднимается все выше и выше и пожирает его. На пленного надвигается земля! Она поглотит меня, Санчо!».
Но еще когда в ходе боя Дон Кихот получает ранение в руку, герцог говорит Карраско: «шутка зашла слишком далеко».
Вот и шутки советских безбожников, по мнению Булгакова, заходили слишком далеко. Нельзя разрушать чужую веру – если ты ничего не можешь предложить взамен. Нельзя заменять веру коровьей ветеринарией. Нельзя красть мечту о Небе: в этом случае душу «пожирает земля». Мрак и печаль настигают таких шутников… Коровьев теперь «темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом».
Булгакову хотелось осадить наглый натиск «коровьего безбожия». И это свое слово, предупреждение, он хотел увидеть дошедшим до людей, опубликованным. Как вступить в гласную полемику с атеистической цензурой?
Не нравилась советская жизнь Булгакову. Он вообще не мог описывать ее не-фельетонно. Но одно дело высмеивать очереди, коммунальные склоки, бюрократию и прочую бытовуху. И совсем другое дело – бросать вызов официальной идеологии.
Однако, в риторике и логике есть такой полемический прием как reductio ad absurdum. Используя его, я становлюсь на точку зрения моего оппонента, как бы соглашаюсь с ним, но затем из этого тезиса логически необходимо и очевидно разворачиваю такие следствия, что для всех, включая моего оппонента, становятся очевидными как абсурдность полученных выводов, так и их логически необходимая и неизбежная связь с исходным допущением.
Вот и Булгаков в «пилатовских главах» вроде бы соглашается с базовыми тезисами атеизма. Иисус не есть Христос, Он не Сын Божий и не Бог. Он не творил чудес, не обладал даром пророчества, не воскресал и не спасал души людей. Учение Иисуса совершенно абстрактно, неприложимо к жизни. Да и в чем оно состояло – совсем не ясно, ибо Евангелия исторически недостоверны. Во всяком случае «добренький Иисусик»[46] ничего не понимал в классовой борьбе, и его мораль никак не может помочь делу борьбы за коммунизм. В общем, если Христос и победил, то лишь потому, что проиграл Спартак (так звучал рекламный слоган советского атеизма).
На Патриарших прудах Берлиоз и Иван Бездомный беседуют о том, как доходчивее разуверить читателей во Христе. Берлиоз не просто глава столичных литераторов. Это в итоговом варианте романа он редактор безымянного «художественного журнала». В ранних же редакциях Булгаков более понятен и конкретен: журнал, редактируемый Берлиозом, называется «Богоборец»[47]. В мае 1929 года предполагалось, что Воланд не верит в искренность атеизма Берлиоза: «Начальник атеист, ну, и понятно, все равняются по заведывающему, чтобы не остаться без куска хлеба». «Эти слова задели Берлиоза. Презрительная улыбка тронула его губы, в глазах появилась надменность. – Во-первых, у меня нет никакого заведывающего»[48].
Более того, в черновике «романа о дьяволе» Берлиоз предлагает Воланду напечатать в своем атеистическом журнале главы из его «евангелия». На это предложение Воланд отвечает: «сотрудничать у вас я счел бы счастьем»[49] (симпатия была взаимной: Берлиозу иностранец «очень понравился»)[50]. «Работа адова делалась и делается уже» в Советском Союзе руками людей. Воланд пользуется случаем выразить свою благодарность этим комиссарам:
«- В нашей стране атеизм никого не удивляет, – дипломатически вежливо сказал Берлиоз, – большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о боге. Тут иностранец встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом слова: – Позвольте вас поблагодарить от всей души!».
Иван Бездомный — антирелигиозный поэт. В своей поэме он столь злобно «очерчивает Иисуса», что Он получается у него «совершенно живой».
Итак, «роман о дьяволе» начинается с беседы двух профессиональных советских богоборцев.
В рукописи 1928 года Берлиоз (тогда он еще звался Владимир Миронович) растолковывает Ивану (тогда еще по фамилии Попов), какую именно стихотворную подпись должен он сочинить к уже готовому рисунку в журнале «Богоборец» – к карикатуре, где Христос заедино с капиталистами. Слушая его, Иванушка рисует прутиком на песке «безнадежный, скорбный лик Христа»[51]. Причем это именно карикатура: на Христа Иван надевает пенсне.
Вот тут атеисты перестают быть одни. Отрицаемый ими мир духов вторгается в их беседу. Появляется Воланд с вопросом – «Если я правильно понял, вы не изволите верить в Бога». «Не изволим, – ответил Иванушка».
Затем следовал разговор о пяти доказательствах бытия Бога (в первой рукописи еще без упоминания о Канте)… И вот взгляд незнакомца падает на рисунок Иванушки: «Ба! Кого я вижу! Ведь это Иисус! И исполнение довольно удачное» (позднее он похвалит и литературную карикатуру на Христа, выполненную Мастером).
Иван делает попытку стереть рисунок, но Воланд останавливает его, предостерегая – «А если Он разгневается на вас? Или вы не верите, что он разгневается?». Рисунок временно остается на песке. (А Воланд рассказывает, как он искушал Иисуса, уговаривая его прыгнуть вниз с крыла храма).
Во второй главе (она носила название «Евангелие Воланда», затем – «Евангелие от Воланда», «Евангелие от дьявола») Воланд рассказывает свою версию суда над Христом.
А в третьей главе – «Доказательство инженера» – теперь уже Воланд провоцирует Ивана не то что стереть, а наступить на лик Христа и тем самым доказать свое неверие. Иван поначалу отказывается, но Воланд подзуживает его, обзывая «врун свинячий» и «интеллигент». Последнего оскорбления Иван стерпеть не смог – и растоптал лик Христа. «Христос разлетелся по ветру серой пылью… И был час шестой»[52]. В Евангелии именно тогда тьма распростерлась над Городом…
Так начиналась первая попытка Булгакова написать тот роман, что известен нам под именем «Мастера и Маргариты».
В более поздних черновиках (1929-1931 гг.) этот эпизод звучит так:
— А вы, почтеннейший Иван Николаевич, — сказал снова инженер, — здорово верите в Христа. — Тон его стал суров, акцент уменьшился.
— Началась белая магия, — пробормотал Иванушка.
— Необходимо быть последовательным, — отозвался на это консультант. — Будьте добры, — он говорил вкрадчиво, — наступите ногой на этот портрет. — Он указал острым пальцем на изображение Христа на песке.
— Просто странно, — сказал бледный Берлиоз.
— Да не желаю я! — взбунтовался Иванушка.
— Боитесь, — коротко сказал Воланд.
— И не думаю!
— Боитесь!
Иванушка, теряясь, посмотрел на своего патрона и приятеля. Тот поддержал Иванушку:
— Помилуйте, доктор! Ни в какого Христа он не верит, но ведь это же детски нелепо — доказывать свое неверие таким способом!
— Ну, тогда вот что! — сурово сказал инженер и сдвинул брови. — Позвольте вам заявить, гражданин Бездомный, что вы — врун свинячий! Да, да! Да нечего на меня зенки таращить!
Тон инженера был так внезапно нагл, так странен, что у обоих приятелей на время отвалился язык. Иванушка вытаращил глаза, По теории нужно бы было сейчас же дать в ухо собеседнику, но русский человек не только нагловат, но и трусоват.
— Да, да, да, нечего пялить, — продолжал Воланд, — и трепаться, братишка, нечего было, — закричал он сердито, переходя абсолютно непонятным образом с немецкого на акцент черноморский, — трепло ты, братишка. Тоже богоборец, антибожник. Как же ты мужикам будешь проповедовать?! Мужик любит пропаганду резкую — раз, и в два счета чтобы! Какой ты пропагандист! Интеллигент! У, глаза бы мои не смотрели!
Все что угодно мог вынести Иванушка, за исключением последнего. Ярость заиграла на его лице.
— Я интеллигент?! — Обеими руками он трахнул себя в грудь. — Я — интеллигент, — захрипел он с таким видом, словно Воланд обозвал его, по меньшей мере, сукиным сыном. — Taк смотри же!! — Иванушка метнулся к изображению.
— Стойте!! — громовым голосом воскликнул консультант. — Стойте!
Иванушка застыл на месте.
— После моего евангелия, после того, что я рассказал об Иешуа, вы, Владимир Миронович, неужто вы не остановите юного безумца?! А вы, — и инженер обратился к небу, — вы слышали, что я честно рассказал?! Да! — И острый палец инженера вонзился в небо. — Остановите его! Остановите! Вы — старший!
— Это так глупо все! — в свою очередь закричал Берлиоз. — Что у меня уже в голове мутится! Ни поощрять его, ни останавливать я, конечно, не стану!
И Иванушкин сапог вновь взвился, послышался топот, и Христос разлетелся по ветру серой пылью.
— Вот! — вскричал Иванушка злобно.
— Ах! — кокетливо прикрыв глаза ладонью, воскликнул Воланд, а затем, сделавшись необыкновенно деловитым, успокоенно добавил: — Ну, вот, все в порядке, и дочь ночи Мойра допряла свою нить»[53].
После этого Воланд уже может задать свой главный вопрос: «А дьявола тоже нет?»..
Напоминая об этом эпизоде в истории текста романа, В. Лепахин справедливо комментирует: «Иван, не задумываясь о смысле своего действия, хочет стереть «карикатуру» на Христа. Воланд же, остановив его, затем предлагает совершить то же самое, но как сознательный акт осквернения образа Христова, как отречение от Него»[54].
В окончательной редакции мы увидим, что Воланд (Азазелло) приветствует сожжение романа о Иешуа призраком Мастера. На пути к той вечности, в которую Воланд ведет Мастера (покой без света), любой образ Христа (даже карикатурный) должен быть попран.
И все же полемика Берлиоза и Бездомного – отражение той полемики в рамках советского атеизма, которая прошла через всю его историю. Одни богоборцы удовлетворялись тем, что низводили Христа с Неба на землю и говорили о нем как об обычном человеке. Другим хотелось смести Христа даже с лица земли и вычеркнуть Его вообще из истории. Они видели в Иисусе лишь литературно-мифологический персонаж и отрицали какую бы то ни было его историчность[55].
«Пролам» легче было просто отмахнуться от веры во Христа: «выдумки и вранье!».
Для них писал Демьян Бедный[56] (в журнале «Безбожник»):
Точное суждение о Новом завете:
Иисуса Христа никогда не было на свете.
Так что некому было умирать и воскресать,
Не о ком было Евангелия писать.
«Образованцы» готовы были к более сложным схемам: «Каким-то образом некогда исторически существовавший человек, о котором нам известно крайне мало, но о реальности существования которого мы можем заключить на основании свидетельств Тацита и Талмуда, сделался объектом явно мифических рассказов о воплотившемся боге»[57].
Наиболее яркое и на советском культурном пространстве авторитетное лицо, озвучивавшее эту версию – это Лев Толстой. В 30-годы с каждым годом его авторитет все возрастал среди образованцев: советская власть простила Льву Николаевичу его графство, объявила классиком и начала издавать 90-томное Полное Собрание Сочинений. Конечно, в это собрание входили и «богословские» труды Льва Толстого, отрицавшие Божественность Христа.
У Корнея Чуковского в «Воспоминаниях о М. Горьком» есть точная заметка: «Была Пасха. Шаляпин подошел к Толстому похристосоваться: – Христос воскресе, Лев Николаевич! – Толстой промолчал, дал Шаляпину поцеловать себя в щеку, потом сказал неторопливо и веско: – Христос не воскрес, Федор Иванович… не воскрес…». Себя Лев Николаевич назначил в почетные и безапелляционные цензоры Евангелия: «Читатель должен помнить, что не только не предосудительно откидывать из Евангелий ненужные места, но, напротив того, предосудительно и безбожно не делать этого, а считать известное число стихов и букв священными»[58].
Моралистика без мистики – вот «евангелие от Толстого». Всепрощение, непротивление и никаких там чудес и демонов.
«Я говорил, – рассказывал арестант, – что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть». Дополнение: «Я, игемон, – ответил, оживляясь молодой человек, – рассказывал про царство истины добрым людям и больше ни про что не рассказывал. После чего прибежал один добрый юноша, с ним другие и меня стали бить и связали мне руки»[59]. Льва (Николаевича) видно по когтям: его Иисус тоже «ни про что не рассказывал», кроме всепрощения… Этика церковных ортодоксов, рыцарская этика была совсем иной: «По другую сторону войны всегда лежит мир и если ради него нужно сразиться – мы сразимся»…[60]
Родство Иешуа и рафинированного толстовского атеизма вполне очевидно. Но есть ли признаки, по которым можно судить об отношении Булгакова к Иешуа и к той этике всепрощения, которая озвучивается устами Иешуа?
Главный и даже единственный тезис проповеди Иешуа – «все люди добрые» – откровенно и умно высмеивается в «большом» романе. Стукачи и хапуги проходят вполне впечатляющей массой. Со всей своей симпатией Булгаков живописует погромы, которые воландовские присные устроили в мещанско-советской Москве. У такого Иисуса Булгаков не зовет учиться своего читателя.
Да, Булгаков предлагает художественную версию толстовско-атеистической гипотезы. Но при этом вполне очевидно, что учение Иешуа не есть кредо Булгакова. Иешуа, созданный Мастером, не вызывает симпатий у самого Булгакова.
Образ любимого и положительного героя не набрасывают такими штрихами: «Ешуа заискивающе улыбнулся..»[61]; «Иешуа испугался и сказал умильно: только ты не бей меня сильно, а то меня уже два раза били сегодня»[62]; «Иешуа шмыгнул высыхающим носом и вдруг такое проговорил по гречески, заикаясь»[63]. Булгаков не мальчик в литературе. Если он так описывает персонажа – то это не его герой[64].
«Пилатовы главы», взятые сами по себе – кощунственны и атеистичны. Они написаны без любви и даже без сочувствия к Иешуа. Мастер говорит Ивану: «Я написал роман как раз про этого самого Га-Ноцри и Пилата»[65]. Довольно-таки пренебрежительное упоминание…
Об Иешуа Мастеру говорить неинтересно: «Скажите мне, а что было дальше с Иешуа и Пилатом, – попросил Иван, – умоляю, я хочу знать. – Ах нет, нет, – болезненно дернувшись, ответил гость, – я вспомнить не могу без дрожи мой роман. А ваш знакомый с Патриарших прудов сделал бы это лучше меня»…
Мастер абсолютно чужд идеологии всепрощения, которую он вкладывает в уста Иешуа: «Описание ужасной смерти Берлиоза (Иваном Бездомным – А. К.) слушающий (Мастер – А. К.) сопроводил загадочным замечанием, причем глаза его вспыхнули злобой: – Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича» (гл.13).
Значит, не только Булгаков, но и Мастер не сочувствует тому Иешуа, который появляется на страницах романа о Пилате.
А Мастер еще не очень-то по сердцу и Булгакову: «Вы – писатель? – спросил с великим интересом Иван. – Я – мастер, – ответил гость и стал горделив, и вынул из кармана засаленную шелковую черную шапочку, надел ее, а также надел и очки, и показался Ивану и в профиль, и в фас, чтобы доказать, что он действительно мастер»[66].
Согласитесь – странный способ доказывать свою литературную талантливость…
Итак, Булгаков явно не ставит себя в ученики «этого самого Га-Ноцри». Образ Иешуа вопреки восторженным заверениям образованцев, не есть икона. Это не тот Лик, в который верит сам Булгаков. Писатель создает образ вроде-бы-Христа, образ довольно заниженный и при этой не вызывающий симпатий у самого Булгакова.
Тогда – одно из двух.
Или Булгаков отождествил Иешуа с Иисусом Христом, причем в Христе он видел своего личного врага, а потому и высмеял Его так жестоко. Но если это именно булгаковский взгляд на Христа – то он непонятен именно биографически. Почти все детали и сюжетные повороты московских глав романа так или иначе разрабатывались Булгаковым в других его произведениях. Но ничего похожего на «пилатовы главы» из под его пера не выходило. Ни рассказов, ни статей, ни фельетонов, в которых затрагивалась бы евангельская тематика, прежде у него не было.
Неужели человек, который отказывался писать атеистические сценарии по госзаказу, решил это сделать по порыву сердца? Неужели тот, чье сердце отвращалось от атеистических карикатур, в своем закатном произведении, произведении, о котором он знал, что оно – последнее – стал осваивать новый для себя жанр травли верующих?
Но если ранее от себя Булгаков никогда ничего подобного не писал, то и пилатовы главы нельзя просто вырвать из «Мастера и Маргариты», напечать их в атеистическом журнале и при этом в качестве автора указать имя М. А. Булгакова.
Значит, не свой взгляд на Христа передал Булгаков. Тогда чей? Чью ненависть ко Христу он ословесил? В чьих глазах Христос превращается в Иешуа? И можно ли этого «другого» назвать единомышленником Булгакова?
Если Иешуа не икона, тогда, быть может – карикатура? Но на кого? На Христа? Биографически и психологически такая гипотеза выглядит крайне неправдопободно.
Тогда зачем он выставил Христа в нелепом виде?
Может, не свое мировоззрение Булгаков вложил в анти-богословие Мастера? Не поставил ли Булгаков между собой и Мастером некоего посредника, в послушании которому и находится творчество Мастера? Ведь «пилатовы главы» существуют не автономно, а в рамках большего произведения. Структура «Мастера и Маргариты» – роман в романе. Может, кто-то из персонажей большого романа, имеющих влияние на Мастера, заинтересован в том, чтобы Иисус выглядел как Иешуа?
Точно ли, что среди персонажей большого, московского, романа именно и только Мастер является автором романа о Пилате?
Обратимся к истории романа. С первого же варианта романа (в 1928 году он назывался «Копыто инженера») в нем действуют Воланд, Иван Бездомный и Берлиоз. Имена этих персонажей менялись, но их места в романе оставались неизменными: Воланд рассказывает воинствующим атеистам «подлинную» историю о Ешуа и Понтии Пилате.
«Чрезвычайно важная особенность первой редакции – отсутствие резкой композиционной отделенности новозаветного материала от современного, которую мы видим в последней редакции: там Воланд произносит только начальные и конечные фразы, а вся история Иешуа и Пилата выделена в особую главу, построенную в форме внеличного повествования. Здесь Воланд все время сохраняет позицию рассказчика и очевидца событий»[67].
Сохранилась авторская «Разметка глав», датированная 6 октября 1933 года. В 10-й главе – «Иванушка в лечебнице приходит в себя и просит Евангелие вечером. Ночью у него Воланд». 11-я глава: «Евангелие от Воланда»[68].
В 1932 году Булгаков полагает, что его роман может называться «Черный богослов»[69].
Работа этого «богослова» состоит в изготовлении карикатуры на Христа. То, что эта карикатура не вызывает согласия у самого Булгакова – уже было показано. Но все же не сатану высмеивает Булгаков, не с Воландом он схватился. «Шмыгающий носом» Иешуа – карикатура на атеистический (толстовский) образ Христа.
Булгаковский роман – это провокация. Но и сам Христос провокативен. Христос – это Бог, который прячется на земле. Его цель была взойти на Укрест. Но искупительная жертва не состоялась бы, если бы фаворская слава Христа была бы очевидна всеми и всегда. И потому Он прячет Свое Божество под «завесой плоти» (Евр. 10,20), в «образе раба» (Филип 2,7). А то, что спрятал Бог, человек найти не может. Поэтому Христос говорит ученикам: «Не вы Меня избраля, а Я вас избрал» (ин. 15,16). Поэтому и на Кресте Он молится о Своих палачах – «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23,34). Поэтому Он говорит о хулящих Его, что хула на Сына Человеческого простится (см. Мф. 12,31).
Св. Иоанн Златоуст так говорит об этих словах: «Христа не знали, кто Он был; а о Духе получили уже достаточное познание… Слова Христа имеют такое значение: пусть вы соблазняетесь Мною по плоти, в которую Я облекся.. Я вам отпускаю то, чем вы Меня злословили прежде креста, даже и то, что вы хотите распять Меня на кресте, и самое неверие ваше не будет поставлено вам в вину… Но что вы говорили о Духе, то не будет прощено вам… Почему? Потому что Дух Святый вам известен, а вы не стыдились отвергать очевидную истину»[70].
В определенном смысле, Христос был именно таким, как булгаковский Иешуа га Ноцри из «Мастера и Маргариты». Таким был «имидж» Христа, таким Он казался толпе. И с этой точки зрения роман Булгакова гениален: он показывает видимую, внешнюю сторону великого события – пришествия Христа-Спасителя на Землю, обнажает скандальность Евангелия, потому что действительно, нужно иметь удивительный дар Благодати, совершить истинный подвиг Веры, чтобы в этом запыленном Страннике без диплома о высшем раввинском образовании опознать Творца Вселенной.
Мы привыкли к представлению об Иисусе-Царе, Иисусе-Боге, с детства слышим молитвы: «Господи, помилуй», «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». А такие произведения, как картины Ге, или, в меньшей степени, Поленова, или тот же «Мастер и Маргарита» помогают нам понять всю невероятность и парадоксальность апостольской веры, почувствовать ее болевой ожог, позволяют нам вернуться в точку выбора… Но Булгаков обнажает всю глубину этого выбора: глаза здравого смысла и научного атеизма он вставил в глазные впадины Воланда. Тот, кто поверит бытовой очевидности, окажется все же союзником сатаны…
ШЕСТОЕ И СЕДЬМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОГА
Третья глава романа носит название «Седьмое доказательство». Что же именно подлежит доказательству? Текст первых глав не оставляет никаких сомнений: речь идет о доказательствах бытия Бога.
Вот эта знаменитая сцена:
— Но, позвольте вас спросить, – после тревожного раздумья спросил заграничный гость, – как же быть с доказательствами бытия божия, коих, как известно, существует ровно пять?
— Увы! – с сожалением ответил Берлиоз, – ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования бога быть не может.
— Браво! – вскричал иностранец, – браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!
— Доказательство Канта, – тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, – также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.
— Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки! – совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич.
Предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.
— Именно, именно, – закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, – ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».
Удивительно, что НИ ОДИН булгаковед не заинтересовался вопросом о том, за что же собственно Канту грозили Соловки. Даже в «булгаковской энциклопедии», где Канту посвящено 7 колонок, его доказательство снова лишь упоминается, но не излагается.
Хуже того, атеистические школьные учебники нагло и беззастенчиво просто морочат[71] детям головы. Они не стесняясь врут, будто «Достоевский понимал Бога не как чудотворца, а как проявление высшей нравственности, категорического императива, как называл это Кант»[72]. Ну, зачем Достоевского в «бесы» записывать? Ведь подобное «богословие» Достоевский влагал именно в уста «бесов»: «В бога учитель наш веровал. «Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? – говаривал он иногда, – я в Бога верую, mais distinguons, я верую, как в существо, cебя лишь во мне сознающее», – говорил Степан Верховенский о своем учителе (Бесы. 1,9).
И Кант не сводил Бога к «проявлению высшей нравственности». Бог Кантом полагается настолько выше мира людей, что для Канта из этой запредельности Бога следует ненужность обрядов и молитв: ведь человеческие действия могут влиять только на то, что находился в этом мире, а не за его пределами… Для Канта Бог не «нравственный закон», а Законодатель этого закона[73]. По отношению же к материальному миру Бог Канта – Творец: «высшая причина природы, поскольку ее необходимо предположить для идеи высшего блага, есть сущность, которая благодаря рассудку и воле есть причина (следовательно, и творец) природы, то есть Бог»[74].
Для Канта не Бог есть «проявление нравственности», а ровно наоборот: в существовании нравственности он видел проявление Бога. Бог – выше нравственного опыта человека. Человеческий нравственный опыт есть лишь окошко, просвет в мире обыденной несвободы, позволяющий увидеть Нечто гораздо более высокое. Само существование нравственности есть лишь указатель на существование человеческой свободы, а вот уже факт нашей свободы есть указание на то, что мир не сводится к хаотической игре атомов.
Подробнее ход кантовской мысли будет изложен в Приложении. Основное в кантовской конструкции – обнажение логически необходимой связи между человеческой свободой и существованием Бога. Если нет над-космического Бога, то непонятно, как человек может быть свободен в космосе, насквозь и накрепко прошитом причинно-следственными нитями.
Воланд не одобрил этого доказательства. Ему вообще не по нраву человеческая свобода. Вся история появления Воланда в Москве – это обнажение коренной несвободы людей. Да и как быть этой свободе у тех людей, которые сами перерезали пуповину, соединяющую их с миром Высшей Свободы?
Атеисты Воланду тоже не по нраву: «он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту» (гл. 1). Воланду недостаточно атеизма. Он хочет видеть вокруг «инженеров с копытом»[75]. Ему нужно превращение атеистов в колдунов и сатанистов. Это путь Маргариты, которая в конце восклицает «Великий Воланд!» (гл. 30). Поэтому Воланд себя самого предъявляет как «седьмое доказательство».
Но и Булгаков использует Воланда как доказательство. Когда Булгаков только приступил к работе над романом, то первая же его глава носила название «Шестое доказательство»[76] (о кантовском доказательстве тогда еще Булгаков не упоминал).
Более того, именно в Воланде он видит главное действующее лицо всего романа. В обращении к «Правительству СССР» 28 марта 1930 года он называет свой труд «роман о дьяволе». Дьявол выписан столь живо и реалистично, что Д. С. Лихачев как-то заметил, что после «Мастера и Маргариты» по крайней мере в бытии дьявола сомневаться нельзя.
Булгаков построил книгу так, что советский читатель в «пилатовых главах» узнавал азы атеистической пропаганды. Но автором этой узнаемой картины оказывался… сатана. Это и есть «доведение до абсурда», reductio ad absurdum. Булгаков со всей возможной художественной очевидностью показал реальность сатаны. И оказалось, что взгляд сатаны на Христа вполне совпадает со взглядом на него атеистической государственной пропаганды. Так как же тогда назвать эту пропаганду? Научной или…? Оказывается, в интересах сатаны видеть во Христе идеалиста-неудачника. А, значит, чисто-»научного» атеизма нет. Атеизм – это просто хорошо замаскированный (или забывший о своем истоке) сатанизм.
Два вывода из «Мастера и Маргариты» напрашиваются довольно очевидно. Первый – что за атеистической пропагандой реет тень люциферова крыла. Второй позволю себе выразить словами рок-певца Виктора Цоя: «Если есть тьма – должен быть свет!».
Этот ход мысли можно проиллюстрировать двумя примерами.
В конце 20-х годов по России распространился следующий анекдот:
В школе у первоклашек учительница проводит урок по атеистическому воспитанию. Она пояснила детям, что бога нет, что его попы и буржуи придумали, чтобы им было легче рабочий класс эксплуатировать. В конце урока следует закрепление пройденного материала. Учительница просит малышей: «Ну что, дети, все поняли, что Бога нет?». Ребятишки подтверждают: «Поняли!» – «А теперь, дети, сложите ваши пальчики вот так (учительница показывает фигу) и поднимите ваши руки к верху!». Все дети это делают, и только один мальчик остается сидеть как прежде. – «Ванечка, а ты почему руку не поднял?» – «Так Марьванна, если там никого нет, то кому мы все это показываем?!».
На философском языке сюжет «Мастера и Маргариты» изложил Н. А. Бердяев. По его мысли именно из неизмеримого могущества зла в мире следует бытие Бога. Ведь если зла так много, и тем не менее встречаются редкие островки света – значит, есть что-то, не позволяющее тайфуну зла переломить тростники добра. Есть какая-то более могущественная сила, которая не позволяет океанскому прибою размыть прибрежные пески. У сил добра, столь редких в мире сем, есть тайны стратегический резерв – в мире Ином. Небесконечность могущества зла есть доказательство бытия Бога…
Конечно, чтобы понять любое доказательство, надо иметь культуру мысли. Самое строгое, красивое и логически выверенное математическое доказательство будет непонятно для человека, не владеющего языком математики. Аргументы, убедительные для профессионального историка или филолога, оставят равнодушными тех, чей круг чтения ограничен томами Фоменко и Мулдашева. Булгаков писал для своих – для «белых». Шариковы могли воспринимать лишь поверхностную мишуру, карнавальную смехотворность его романа. Те, кто попримитивнее, возмущались этой сатирой; те, в чьей крови все же были гены «водолаза» – радовались ей.
А вот духовные родственники Булгакова – белая церковная интеллигенция – смогла прочитать его роман как произведение христианское. Об этом говорит то, что в ведущем культурно-богословском издании русского зарубежья – парижском журнале «Вестник Русского студенческого христианского движения» – за 25 лет после публикации булгаковского романа появилось пять статей о «Мастере и Маргарите». Все они были положительные[77].
Стоит также заметить, что православная Анна Ахматова, выслушав из уст автора «Мастера и Маргариту» в 1933 году, не прервала своего общения с Булгаковым. Более того – Фаине Раневской она говорила, что «это гениально, он гений!»[78]. Положительной была и реакция великого православного литературоведа Михаила Бахтина[79]. Они знали, что есть зло страшнее и долговечнее, чем советская власть.
По справедливому сравнению священника Андрея Дерягина, «ситуация с восприятием романа аналогична завозу в Россию картошки при Петре I: продукт замечательный, но из-за того, что никто не знал, что с ним делать и какая его часть съедобна, люди травились и умирали целыми деревнями»[80]. К сожалению, в фильме Владимира Бортко, фраза про «седьмое доказательство» просто опущена…
КТО АВТОР РОМАНА О ПИЛАТЕ?
Изначально у Булгакова все было очевидно: автор «романа о Пилате» – Воланд. Но по мере переработки романа «исполнителем» рукописи становится человек – Мастер.
Впервые на страницах булгаковского романа Мастер появляется довольно поздно – в тетрадях 1931 года (позже, чем Маргарита)[81]. Автором же романа о Пилате он становится еще позже – только осенью 1933 года (он еще «поэт»; впервые «мастером» называет его Азазелло) [82].
До той же поры авторство Воланда несомненно. Даже свое имя Мастер заимствовал у Воланда. «В первых редакциях романа так почтительно именовала Воланда его свита (несомненно, вслед за источниками, где сатана или глава какого-либо дьявольского ордена иногда называется «Великим Мастером»)[83].
При этом двух Мастеров в романе никогда не было: когда Мастером был Воланд, любовник Маргариты назывался «поэтом».
Переход имени означает и частичный переход функции. Создавая образ Иешуа, Мастер подхватывает работу Воланда. И тут появляется интересный нюанс. Теперь авторство черного евангелия выстраивается многоступенчато – как и в случае с евангелиями церковными. В богословии различаются «Евангелие Христа» и «евангелие от Матфея». «Евангелие Христа» – это проповедь самого Христа. Четыре «Евангелия от…» – это передача проповеди Христа четырьмя различными людьми. «От» – это перевод греческого предлога «ката», смысл которого точнее было бы перевести «по». В каждой из этих передач есть свои акценты и приоритеты. Значит, названия наших главных церковных книг – «Евангелие Иисуса Христа по Матфею», «…в передаче Матфея».
Вот также и у Булгакова после передачи Мастеру пера, набрасывающего «роман о Пилате», начинает различаться «евангелие Воланда» и «евангелие от Мастера». Автором первого является непосредственно сатана, а вот литературное оформление второго передается человеку – Мастеру. Но Мастер творчески активен и самостоятелен лишь в литературном оформлении, а не в сути.
О несамостоятельности работы Мастера над своим романом говорит многое. Во-первых, то, что у Мастера нет своего личного имени. Позволю себе высказать предположение, что слово мастер нужно прочитать на иврите. В еврейском языке оно имеет значение «закрытие», причем у прор. Исайи 53,3 это слово означает «предмет для закрытия нами своего лица»[84]. У Булгакова мастер – это замена имени, отказ от имени. Имя не нужно, когда жизнь человека (персонажа) сводится к некоей одной, важнейшей его функции. Человек растворяется в этой функции. И по ходу булгаковского повествования Мастер растворяется в написанном им романе ив своей зависимости от Воланда.
Во-вторых, то, что рассказ о Пилате начинается до появления Мастера на арене московского романа и продолжается уже после того, как Мастер сжег свой роман. Кто же начинает и кто завершает? – Воланд[85].
Причем Воланд презентует этот рассказ на правах «очевидца». «Боюсь, что никто не может подтвердить, что то, что вы нам рассказывали, происходило на самом деле, – заметил Берлиоз. – О нет! Это может кто подтвердить! – начиная говорить ломаным языком, чрезвычайно уверенно ответил профессор. – Дело в том… что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте».
Мастер – «гадает»[86], Воланд – видит. Мастер отсылает Ивана за продолжением к Воланду («ваш знакомый с Патриарших прудов сделал бы это лучше меня»). Воланду же ни к чему ссылка на Мастера.
Правда, о своей причастности к этой книге Воланд не торопится возвещать. «Так вы бы сами и написали евангелие, – посоветовал неприязненно Иванушка. Неизвестный рассмеялся весело и ответил: – Блестящая мысль! Она мне не приходила в голову. Евангелие от меня, хи-хи…»[87]. Тут видна ложь, без которой немыслим образ сатаны. «Евангелие от дьявола» уже написано и уже известно соавтору. Но Воланд отрекается от авторства. Он – просто «консультант» (23 раза в тексте романа Воланд именуется так, тогда как Мессиром – 65 раз). Кого же он консультирует? Вновь напомню, что Воланд – честнейший бес мировой литературы. Он почти не врет. И в московском романе он оправдывает эту свою автохарактеристику только в отношении к роману Мастера.
Также он поступит и в окончательной версии романа – сделав удивленный вид при встрече с Мастером.
Что ж – «поздравляю вас, гражданин, соврамши!». Что Воланд знаком с Мастером и его романом, выдает сам Мастер, когда в больнице говорит Иванушке – «Воланд может запорошить глаза и человеку похитрее». Штука в том, что Иванушка имени Воланда и сам не знал и Мастеру не называл… При этом Мастеру понятно: «Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной». И, судя по состоянию души Мастера, он не из книг знает о том, как рушатся души, коснувшиеся князя тьмы: «А затем, представьте себе, наступила третья стадия – страха. Нет, не страха этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещами. Так, например, я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Стоило мне перед сном потушить лампу в маленькой комнате, как мне казалось, что через оконце, хотя оно и было закрыто, влезает какой-то спрут с очень длинными и холодными щупальцами. И спать мне пришлось с огнем… Я стал человеком, который уже не владеет собой». Так что не вполне права Маргарита, когда полагает, что Мастера опустошила психушка («Смотри, какие у тебя глаза! В них пустыня»).
Да и сам Воланд намекает на то, что одна вполне конкретная рукопись интересует его и что именно этот интерес и завлек его в Москву:
«Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века, так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист».
Объяснение весьма интересное. Герберт Аврилакский (Герберт Орильякский, Gerbert d’Aurillac) – это римский папа Сильвестр 2 (999-1003). Еще не будучи папой, он изучал у арабских ученых математику. Он был первым ученым, который познакомил европейцев с арабскими цифрами. Его подозревали в занятиях магией, но вряд ли эти обвинения были основательны – иначе он не был бы избран на папский престол. Тем не менее, фигура Сильвестра стала одним из прототипов легенды о докторе Фаусте. Легенда гласила, что Герберт уговорил дочь мавританского учителя, у которого он учился, похитить магическую книгу ее отца. С помощью этой книги он вызвал дьявола, а уж дьявол сделал его папой и всегда сопровождал его в образе черного лохматого пса[88]. Герберту также приписывали владение искусством изготовления терафима – говорящей мертвой головы (ср. беседу Воланда с головой Берлиоза).
В подвалах дома Пашкова Воланд замечен не был. С текстами Герберта вроде бы мы его тоже не видим. Неужели соврал? – Нет. Лишаем слова Воланда чрезмерной конкретики и получаем: Воланда интересует некая рукопись, написанная некиим Фаустом и хранящаяся в некоем московском подвале. А в таком виде это ложь? – Нет!
Воланд и в самом деле прибыл в Москву для знакомства с рукописью одного из Фаустов. Но называя имя первого литератуного Фауста, но имеет в виду последнего – Мастера. Вот с его рукописью он и в самом деле познакомился. И о ее существовании он знал все же с самого начала…
Отношения Мастера с Воландом – это классические отношения человека-творца с демоном: человек свой талант отдает духу, а взамен получает от него дары (информацию, видения-»картинки», энергию, силы, при необходимости и «материальную помощь»[89] и защиту от недругов).
Порой при этом сам человек не понимает до конца, откуда же именно пришел к нему источник его вдохновения. Мастер, например, уже завершив свой роман, впервые встречается с Воландом лицом к лицу. Причем Воланд делает вид, что он никакого отношения к творчеству Мастера не имеет (точнее, словом Воланд заявляет одно, а делом – являя сожженную рукопись – тут же демонстрирует совсем иное).
Вот чего нет у сатаны – так это собственного творческого таланта. Оттого так ненужны, скучны и повторны пакости воландовской свиты в конце московского романа (уже после бала у сатаны).
По православному учению, человек поставлен выше ангелов. И в самом деле, «ангел» – это просто вестник. От почтальона не ждут, чтобы он творчески переиначивал порученную ему телеграмму. Иначе выйдет так, как в январе 1953 года. В стране в ту пору раскручивалась последняя сталинская идеологическая кампания – борьба с безродным космополитизмом. Кампания шла с отчетливым антисемитским привкусом. И вот в те самые дни один епископ подзывает к себе своего послушника и велит ему отнести на почту телеграмму. Телеграммой сельский батюшка уведомлялся о том, что такого-то числа ему надлежит прибыть в собор для получения патриаршей награды – возведения в сан протоиерея. Послушник относит записку на почту. На почте же в окошке сидит советская девушка-комсомолка, которая таких слов как протоиерей в жизни не слыхала. В итоге батюшка получает следующую телеграмму: «такого-то числа Вам надлежит прибыть в собор для возведения Вас в сан противоеврея».
Святоотеческие тексты, говоря о людях и ангелах, творчество аттрибутируют лишь первым: «Не ангельское дело творить» (св. Иоанн Златоуст)[90]. «Будучи творениями, ангелы не суть творцы» (преп. Иоанн Дамаскин)[91]. И, напротив, – «Бог соделал человека участником в творчестве» (преп. Ефрем Сирин)[92].
И это все, между прочим, связано с нашей телесностью. Чтобы наш дух мог повелевать телом[93], Бог и дал ему дар творчества. «Мы одни из всех тварей, кроме умной и логической сущности, имеем еще и чувственное. Чувственное же, соединенное с умом, создает многообразие наук и искусств и постижений, создает умение возделывать (культивировать) поля, строить дома и вообще создавать из несуществующего. И это все дано людям. Ничего подобного никогда не бывает у ангелов» (св. Григорий Палама)[94].
Природа ангелов проста и им нечем «руководить», но человек двусоставен, и душа должна владеть телом, а для этого как минимум она должна обладать способностью к властвованию.
Лишь человек несет в себе образ Творца творцов. Способность же творить, менять мир и владычествовать над ним вменена человеку вместе с телесностью. Отсюда и важнейший этический вывод: «Ангел неспособен к раскаянию, потому что бестелесен» (преп. Иоанн Дамаскин)[95]. Поскольку способность к творчеству связана с телесностью, а раскаяние есть величайшее творчество – то вне тела раскаяние невозможно. Не поэтому ли падший ангел не может покаяться? Не поэтому ли его отпадение невозвратимо и вечно? Не поэтому ли и для человека нет покаяния после выхода души из тела? Не поэтому ли Христос говорит: «В чем застану – в том и сужу»?
Свобода ангелов – одноразового пользования. Они однажды выбирают – с Творцом или против Него. И в этой однажды избранной конфигурации своей воли они остаются навсегда (в отличие от воплощенного духа – человека, который в покаянном творчестве может ежесекундно менять вектор своей жизни).
Сатана – ангел (хотя и павший). И поэтому он сам не может творить. Поэтому и нуждается он в творческой мощи людей. Поэтому и нужны ему все новые Фаусты – в том числе и Мастер.
Воланд одалживает Мастеру свои глаза, дает ему видения. Мастер же (которого Булгаков выводит на сцену в тринадцатой главе)[96] эти видения пропускает через свой литературный гений.
Воланд просто использует Мастера в качестве медиума. Но этот контакт в итоге выжигает талант Мастера, который по завершении своей миссии становится творчески бессилен[97].
Эта история очередного Фауста необычна, пожалуй, лишь одним: в жизни Мастера нет минуты решения, выбора. Оттого нет и договора. Мастер неспособен к поступкам. Он медиумично плывет по течению и оправдывет себя формулой иуд всех веков: иного, мол, и не остается «- Ну, и ладно, ладно, – отозвался мастер и, засмеявшись, добавил: – Конечно, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы! Ну, что ж, согласен искать там» (гл. 30).
Воланд просто подобрал то, что плохо лежало. Мастер не продал сатане душу. Он ее просто растерял (поступок, то есть сознательную отдачу себя сатане в булгаковском романе совершает лишь Маргарита).
Трижды и тремя разными способами вводится пилатова линия в текст московского романа. Сначала как прямая речь самого Воланда. Затем – как сон Иванушки, и, наконец, как рукопись романа Мастера. При этом стилистически, сюжетно, идейно текст из всех трех источников оказывается поразительно един. Кто может контролировать все три этих источника? Если роман есть произведение только Мастера – то лишаются ответа два вопроса: 1) откуда Воланд мог знать роман московского писателя, с которым он якобы даже и не был знаком в первый день своего пребывания в столице СССР? 2) Как роман Мастера мог войти в сон Ивана Бездомного?
Но эти вопросы снимаются, если предположить, что Воланд изначально вдохновляет Мастера в его творчестве. Мир снов, наваждений и теней – это родной мир Воланда. Только Воланд имеет достаточно сил для того, чтобы воспользоваться всеми тремя вратами. Значит, он и есть подлинный автор этой антиевангельской версии евангельских событий
Да и тот факт, что эпиграф булгаковского романа относится именно и только к Воланду, показывает, в ком именно Булгаков видит главного персонажа своего повествования. Роман Булгакова и в самом деле – о «Черном богослове».
РОМАН ИЛИ ЕВАНГЕЛИЕ?
То, что сам Булгаков в «романе о Пилате» видел «евангелие сатаны», мы уже знаем. Но как об этом может узнать читатель, взгляд которого не допущен к записным книжкам писателя?
Подсказку вдумчивый читатель найдет в знаменитой фразе «рукописи не горят». В устах Воланда – это четкая претензия на то, что инспирированная им рукопись должна заменить собою церковные Евангелия или по крайней мере встать с ними вровень.
Дело в том, что «рукописи не горят» – это цитата. Цитата пусть и не текстуальная, но смысловая. В самых разных религиозных традициях утверждалось, что спорные дела надо доверять суду стихий – воды или огня.
Арабский путешественник Абу Хамид ал-Гарнати, посетивший Восточную Европу в середине 12 столетия, побывал и в Верхнем Поволжье. Об одном из живущих там племен он поведал следующее: «У них каждые 10 лет становится много колдовства, а вредят им женщины из старух-колдуний. Тогда они хватают старух, связывают им руки и ноги и бросают в реку: ту старуху, которая тонет, оставляют, и знают, что она не колдунья, а которая остается поверх воды, – сжигают на огне»[98].
Зато у древних германцев был обратный обычай: если возникали сомнения в законнорожденности ребенка, младенца бросали в Рейн. Если малыш всплывал – значит, боги Реки решили, что ребенок чист, и тогда его вытаскивали. Если же он тонул – значит, стихия совершила свой суд и погубила дитя греха.
В христианских же святцах есть история о епископе (св. Льве Катанском), который увидел в своем храме языческого жреца, связал его омофором, вытащил на улицу и приказал прихожанам разжечь костер. Вместе с этим колдуном и епископ взошел на костер. Но богозданная стихия, конечно, послушалась своего Творца, а потому христианского пастыря оставила нетронутым, испепелив при этом язычника…
Византийский хронист Никифор Каллист говорит, что в середине 5 столетия имело место публичное прение православного епископа и арианина (это ересь, отрицавшая Божественность Христа). Арианин был хороший ритор и диалектик; православный же – просто благочестивый пастырь. Видя, что в словах он переспорить не сможет, православный предложил испытание огнем. Арианин отказался взойти на костер, православный же, и стоя на костре, продолжал свою проповедь (см. Никифор Каллист. Церковная история 15,23).
Огонь мог оставить нетронутыми не только людей, но и рукописи – если эта рукопись была святой, Богодухновенной. В 1205 г., из Испании в Лангедок для борьбы с альбигойской ересью прибыл приор Доминик де Гусман – будущий католический святой и основатель доминиканского монашеского ордена (доминиканцы потом станут главными инквизиторами). Свои анти-альбигойские доводы он изложил письменно, а рукопись вручил своим оппонентам. Альбигойцы, посовещавшись, решили предать эту рукопись огню. Каково же было их потрясение, повествует легенда (ее, в частности, приводит в своей «Истории альбигойцев» Н. Пейра), когда пламя отнеслось к рукописи Доминика с благоговением и трижды оттолкнуло ее от себя.
М. А. Булгаков интересовался историей альбигойской ереси. И вряд ли он мог пройти мимо работы Наполеона Пейра[99] – французского историка XIX века, изучавшего борьбу католического Рима с альбигойцами по манускриптам того времени. «Труд Н. Пейра, содержащий это сообщение, Булгаков мог прочесть в Ленинской библиотеке (он находится там и по сей день). Мы знаем, что писатель часто прибегал к услугам всегда имевшегося у него под рукой энциклопедического словаря Бpoкгауза – Ефрона. А там, в статье «Альбигойцы», есть ссылка именно на эту работу Пейра»[100].
Итак, распространенное верование говорит, что не разрушается то, что сохраняет Бог, в том числе – истинные книги, содержащие правильное понимание библейских сюжетов. Теперь же Воланд выступает в роли и хранителя рукописей и определителя их достоверности. По заверению Воланда, именно его версия евангельских событий должна быть принята как прошедшая «независимый суд» стихий. О том, как горят церковные книги, хорошо знал советский читатель 30-х годов а потому и несгораемое творение Воланда презентовалось как достойная замена канонических Евангелий.
Во второй полной рукописной редакции романа (1938 год) есть две подробности. В ночь первого сожжения своей рукописи Мастер «попробовал снять книгу с полки. Книга вызвала во мне отвращение»[101]. В ночь же второго сожжения рукописи Мастер снова берет в руки книгу и пускает ее на растопку: «Мастер, уже опьяненный будущей скачкой, выбросил с полки какую-то книгу на стол, вспушил ее листы в горящей скатерти, и книга вспыхнула веселым огнем». Это не рукопись самого Мастера, а именно книга. В обоих случаях книга не названа. Однако, только одна книга в европейской традиции не нуждается в уточнении названия и называется просто Книгой. Библия. Вот она-то горит – в отличие от пришедшего ей на замену манускрипта.
«Пилатовы главы» – не просто авторский рассказ или версия. Это именно «евангелие», но анти-евангелие, «евангелие сатаны». Оно не рядом, оно – вместо церковных книг. «Только знаете ли, в евангелиях совершенно иначе изложена вся эта легенда, – все не сводя глаз и все прищуриваясь, говорил Берлиоз. Инженер улыбнулся. – Обижать изволите, – отозвался он. – Смешно даже говорить о евангелиях, если я вам рассказал. Мне видней. – Так вы бы сами и написали евангелие, – посоветовал неприязненно Иванушка. Неизвестный рассмеялся весело и ответил: – Блестящая мысль! Она мне не приходила в голову. Евангелие от меня, хи-хи…»[102].
Поэтому главы, где действует Иешуа, нельзя называть «евангельскими»[103]. Их верное название – «пилатовы главы». Сам Мастер говорит – «я написал о Пилате роман» (гл. 13). На вопрос Воланда – «О чем роман?», Мастер отвечает столь же однозначно: «Роман о Понтии Пилате» (гл. 24)[104]. Иванушку также интересует не Иешуа, а Понтий Пилат («Меня же сейчас более всего интересует Понтий Пилат… Пилат»). Иешуа – неглавный персонаж романа о Пилате. И роман не столько «апология Иисуса» (как собачились атеистические критики), сколько апология Пилата.
В этом романе оправдан Пилат[105]. Оправдан Левий, срывающийся в бунт против Бога… Похоже, что оправдан даже Иуда, кровью своей искупивший свое предательство: его убийца «присел на корточки возле убитого и заглянул ему в лицо. В тени оно представилось смотрящему белым, как мел, и каким-то одухотворенно красивым».
Понятно, почему сатана заинтересован в этом анти-евангелии. Это не только расправа с его врагом (Христом церковной веры и молитвы), но и косвенное возвеличивание сатаны. Нет, сам Воланд никак не упоминается в романе Мастера. Но через это умолчание и достигается нужный Воланду эффект: это всё люди, я тут не при чем, я просто очевидец, летал себе мимо, примус починял… Так вслед за Понтием Пилатом и Иудой следующим амнистированным распинателем становится сатана.
И, как и подобает анти-евангелию, оно появляется в скверне: из-под задницы кота («Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей»). Рабочий стол – печка – коту под хвост – и снова печка. Таков путь рукописи Мастера[106].
Кстати, и деньги, на которые Мастер творил свое произведение, он нашел в грязи («Вообразите мое изумление, – шептал гость в черной шапочке, – когда я сунул руку в корзину с грязным бельем и смотрю: на ней тот же номер, что и в газете!»)[107].
История с облигацией, по которой Мастер выиграл сто тысяч рублей, становится еще более несимпатичной, если вспомнить, кто именно выиграл эту самую облигацию в первом варианте булгаковского романа. «Не могу вам описать, какое лицо было у Варравы, когда он выходил из кордегардии. Вообразите себе человека, который имел в кармане железнодорожный билет и вдруг совершенно неожиданно выиграл по этому билету сто тысяч рублей… Он улыбался, и улыбка его была совершенно глупа и беззуба, а до допроса у Марка Центуриона Вар освещал зубным сиянием свой разбойный путь. – Ну, спасибо тебе, Назарей, – вымолвил он, шамкая, – замели тебя вовремя!»[108].
Так что именование «пилатовых глав» «евангельскими» означает полную солидарность с Воландом. И не менее радикальное расхождение с Михаилом Булгаковым.
ПУТЬ ПИЛАТА: ОТ РУКОПИСИ К ЛУНЕ
Так что – «Мастер и Маргарита» это рассказ о некоем не очень духовном человеке, который свои проблемы переписал через евангельский сюжет? Да. Но и больше.
Роман Булгакова сложен, а местами и просто запутан. Признаюсь, я не могу понять, где Мастер и Маргарита окончили свою земную жизнь. То ли они были отравлены в подвале. То ли Азазелло организовал сердечный приступ Маргарите у нее же дома[109], а Мастеру – в больнице…
Но есть в романе такие сложности, которые все же можно понять – если посмотреть на них в контексте более широком, чем текст самого романа.
Оказывается, не только персонажи московского романа (Воланд и Мастер) ткут ткань романа о Пилате. Есть и обратное влияние: Иешуа и Пилат покидают страницы своего романа и вторгаются в судьбы персонажей московских.
Самый большой и смущающий (для христианина) сюрприз «Мастера и Маргариты» в том, что в его конце оживают персонажи малого романа, придуманные персонажами романа большого.
Причем и Пилат и Иешуа оказываются прежними – как раз такими, какими их и описал Мастер. Но если автор «романа о Пилате» – не то Воланд, не то Мастер, то автором московского романа все же оказывается сам Булгаков. Неужели и он видит Иешуа таким же, как видел его Воланд? Неужто Мастер «угадал» не только замысел Воланда, но и веру Булгакова?
Я полагаю, что через все эти сложности о вере Булгакова можно сказать по крайней мере одно: он верит в то, что творец рискует стать заложником своего творения.
Воланд подчеркивает, что Пилат придуман Мастером: «Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой…». В этом – булгаковская подсказка. Булгаков заставляет Воланда проговориться. Ведь если придуман Пилат, то придуманы и Иешуа, и Левий[110].
А Пилат «романа» придуман или нет? Столь велико обаяние булгаковсского творения, что миллионы людей думают, будто и в самом деле Понтий Пилат был «пятым прокуратором Иудеи». На самом деле ни один из новозаветных текстов так его не зовет. Он правитель – «игемон». Прокуратор – это просто старший сборщик налогов в имперскую казну. После подавления иудейского восстания 69-70 годов Иудея была лишена видимости своей самостоятельности, и тогда действительно римские правители этой провинции стали именоваться прокураторами. Так именно представлен Понтий Пилат у Тацита. Но: именно свидетельству Тацита и призывает не верить Берлиоз – «Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в 15-й книге, в главе 44-й знаменитых Тацитовых «Анналов», где говорится о казни Иисуса, – есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка».
Булгаков не оспаривает это мнение (и в самом деле: христианские апологеты 2-4 веков не ссылаются на Тацита). Значит, описание жизни «прокуратора Понтия Пилата» строится на заведомо неверном источнике… Это именно художественная литература. А у художественной литературы и населяющих ее персонажей есть автор, творец. Таковым для «прокуратора Понтия Пилата» является Мастер (с участием Воланда).
В начале романа Воланд говорит, что он всего-навсего очевидец, и повествование о Пилате и тех, чьи судьбы раздавлены Пилатом, идет как о чем-то в высшей степени объективном и достоверном. Невнимательный читатель «Мастера и Маргариты» может подумать, что все и в самом деле было так.
Но очная встреча Воланда и Мастера с одной стороны, Пилата и Левия Матвея, с другой, не позволяет вдумчивому читателю принять эту простую схему. На этой встрече оказывается, что Пилат придуман Мастером. Следовательно, в той же синергии Мастера и Воланда придуманы и Левий и Иешуа.
Потому они и просят Воланда – как создания у своего создателя (гл. 29)…
6 июня 1936 года Булгаков так завершил работу над «первой полной редакцией» своего романа: Мастер «подскакал к Воланду ближе и крикнул: – Куда ты влечешь меня, о великий Сатана? – Голос Воланда был тяжел, как гром, когда он стал отвечать: – Ты награжден. Благодари бродившего по песку Ешуа, которого ты сочинил».[111]
Значит, тот, кто влюбляется в воландовского Иешуа, влюбляется в сатанинский артефакт, в морок. Любить Иешуа – это безвкусие. Это не «духовность», а атеизм и сатанизм.
Но не зря Булгаков изучал оккультизм. В оккультизме и в буддизме предполагается, что «энергия человеческой мысли» объективируется, сгущается и затем может оказывать совсем не просимое обратное воздействие на своего творца. Все боги, все духи, все демоны созданы игрой сознания. Психическая энергия, которую поклонник вкладывает в некий мыслеобраз, концентрируется в этом образе и постепенно отчуждается от мыслящего, медитирующего, молящегося ума. Соответственно, любой мыслеобраз, которому множество людей поклоняется в течение долгого времени, достаточно реален. Он способен им помогать и как бы возвращать людям энергию, которую от них получил прежде. Божества создаются направленным к ним поклонением; это аккумуляторы, собирающие в себе энергию поклонения.
Маг же должен сознательно создавать такие аккумуляторы (терафимы), т.е такие материальные предметы, через которые энергия, собранная богами, возвращалась бы от них в мир людей. Маг должен уметь дарить духам бытие не только в «тонкоматериальном мире», но и в мире плоти – например, через подселение духов в материальные предметы.
Так «индусы дают жизнь магическим диаграммам и скульптурным изображениям богов, прежде чем поклониться им. Обряд этот именуется прана-пратиштха. Цель его — вдохнуть при помощи духовной эманации в неодушевленный предмет жизненную силу верующего. Сообщенная предмету жизнь поддерживается ежедневными ему поклонениями. В сущности, он «питается» сосредоточенной на нем концентрацией мысли. Если этой питающей силы ему начинает не хватать, живая душа в нем чахнет и гибнет от истощения. Одухотворенный предмет снова превращается в мертвую материю. Последнее — одна из причин, почему индусы считают грехом прекращение ежедневного служения уже одухотворенным изображениям богов[112], за исключением тех случаев, когда даруемая им жизнь ограничена рамками особой церемонии. В таких случаях по окончании обряда их считают покойниками и с большой пышностью погребают в водах священной реки»[113].
Общеязыческое убеждение полагает, что боги питаются дымом жертв, сжигаемых перед их изображениями. Традиционная магическая практика «изготовления богов» описана еще в герметическом трактате «Асклепий»: «одушевленные изваяния, преисполненные сознания и духа, свершают столько великих деяний; существуют изваяния прорицательные, которые предсказывают будущее в снах и прочими способами, и иные, которые поражают нас болезнями или исцеляют, причиняют нам боль или дарят радость» (Асклепий, 8); «поскольку сотворить душу было не в их (праотцов) власти, они вызывали души демонов или ангелов и заключали их в свои идолы посредством священных и божественных церемоний, наделяя идолов способностью творить добро и зло» (Асклепий, 13). «Гермес… утверждает, что видимые статуи представляют собой как бы тела богов; в телах же этих находятся привлеченные туда духи, имеющие отчасти силу или причинять вреди или исполнять кое-какие желания тех, кто оказывает им поклонение. Привязывать посредством некоторого искусства невидимых духов к видимым вещам и значит творить богов» (Августин. О Граде Божием. 8,23). Неоплатоник Прокл с восторгом описывает возможности животворения статуй: «таинство, в котором очистили некоторые изображения и символы и расположили их вокруг статуи, сделало ее живой» (Прокл. Теология Платона 1,28)[114].
Если не знать этих языческих верований в статуи как место обитания божеств и как источник магических воздействий на человека, то будет непонятно то дерзновение, с которым христиане врывались в языческие храмы и разрушали статуи[115]. С точки зрения «светской» это поведение кажется варварством, разрушением памятников искусства «церковными мракобесами». Но христиане видели в этих статуях именно то, что видели в них сами же язычники – не произведения искусства, а колдовские талисманы…
И еще не забудем, что над Небесным Ершалаимом в концовке «Мастера и Маргариты» царят «сверкающие идолы» (в другом месте: «и эти идолы, ах, золотые идолы! Они почему-то все время не дают покоя», – говорит Маргарита в 30-й главе).
Психический механизм теогонии должен постигнуть буддистский посвященный. Ученик должен вызвать и приручить духа-покровителя. Для этого он проводит много месяцев в длительной уединенной медитации в темноте. Он его воображает, призывает, молит, заманивает… Через некоторое время в келье послушника начинаются перемены. Появляются шорохи; шорохи перерастают в звуки, звуки слагаются в слова… В воздухе сначала носятся огоньки, потом мелькают тени, светотени. Наконец, является образ и звучит речь.
Наконец, призрак крепнет настолько, что явственно для ученика гуляет с ним средь бела дня. «С некоторыми учениками происходят странные приключения, но среди них бывают и победители, им удается удержать при себе своих почитаемых компаньонов, и те уже покорно сопровождают их, куда бы они ни отправились. — Вы добились своей цели, — заявляет тогда учитель. — Мне нечему больше вас учить. Теперь вы приобрели покровительство более высокого наставника. Некоторые ученики благодарят учителя и, гордые собой, возвращаются в монастырь или же удаляются в пустыню и до конца дней своих забавляются своим призрачным приятелем»[116]. Но есть другие, которые ничего не видят или, видя, понимают, что это собственное порождение. Они и становятся истинными учениками. «Именно это и нужно было понять, — говорит ему учитель. — Боги, демоны, вся вселенная — только мираж. Все существует только в сознании, от него рождается и в нем погибает».
Впрочем, та же тема может быть знакома современному читателю и по совсем другому произведению: «Солярису» Лема (и Тарковского). Здесь тоже воспоминания обретают самостоятельную жизнь и входят в диалог с тем сознанием, частью которого еще недавно являлись. В классике же тему обратного воздействия героев произведения на своего творца проигрывает «Портрет Дориана Грэя».
Вот так же «призрачные приятели» обретают свою плоть в финале «Мастера и Маргариты».
Быть может, именно поэтому Каиафа и Иуда не появились ни на балу у сатаны, ни в жизни Мастера. Их ограниченность рукописью Мастера может объясняться тем, что Мастер не вложил в эти образы свою душу – в отличие от более проработанных образов Пилата и Иешуа.
Но у «романа о Пилате» два соавтора. Оба они – и Воланд, и Мастер – «объективируют» свои фантазии. В сентябре 1934 года Булгаков полагал, что не Мастер, а Воланд отпускает Пилата: «- Прощен! – прокричал над скалами Воланд, – прощен!»[117].
Впрочем, еще более о власти Воланда над романом Мастера свидетельствует его подчеркнутое отсутствие на страницах этого романа. Раз персонажи, мотивы и судьбы романа Мастера придуманы, а дьявола в романе нет, значит именно он-то и сверх-реален. Ему не надо попадать в зависимость от Мастера и потом добиваться независимости от него.
Воланд использовал Мастера – и покинул его. Иешуа создан Мастером – и тоже оставил его. Простил ли Иешуа своего создателя – Мастера? Иешуа, который вроде бы всех прощает, для которого все люди добрые, тем не менее выносит приговор Мастеру. О том, что это приговор, а не награда, свидетельствует печальная интонация Левия при произнесении этой фразы («А что же вы не берете его к себе, в свет? – Он не заслужил света, он заслужил покой, – печальным голосом проговорил Левий»).
Иешуа отдает Мастера навсегда в царство Воланда, зла и тьмы: «Он прочитал сочинение мастера, – заговорил Левий Матвей, – и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?» Иешуа лишь одно дарит Мастеру – освобождение от памяти о самом Иешуа… Создание вынесло приговор своему творцу («он не заслужил света») и покинуло его.
Чем перед Иешуа провинился Мастер? Не тем ли, что создал какого-то карикатурно-картонного, одномерного персонажа, который, став самостоятелньым, сам тяготится своей навязанной ему одномерностью и пробует ее – через осуждение Мастера – изжить?
Теперь будет понятна головокружительная фраза Воланда, сказанная Мастеру: «Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман». Вновь говорю: если Мастером выдуман Пилат, то Иешуа тоже должен быть рассматриваем как просто персонаж его романа. Но вот, оказывается, персонаж читает роман про самого себя и дает ему оценку… Это и есть сюрприз, обещанный Воландом Мастеру[118]. Сон, придуманный писателем (Мастером) для своих персонажей (сон Пилата о прогулке с Иешуа) обретает реальность и являет себя призраку автора…
Персонажи создаются романом Мастера, но все же эти тени не начинают жизни вполне самостоятельной. Такими, какими их задумал Мастер, они сохраняются навсегда. Но им не хватает сил и реальности для того, чтобы самостоятельно меняться хотя бы в мелочах. Их непеременчивость подчеркивается: Левий Матвей и в ХХ веке все так же мрачен и ходит все в том же хитоне, запачканным глиной еще на Лысой Горе. Двенадцати тысяч новолуний не хватает для того, чтобы лужа вина высохла у ног Понтия Пилата. И сам Понтий Пилат не изменился – он по прежнему отрицает свою ответственность за казнь Иешуа. Казненный им Иешуа также все еще «в разорванном хитоне и с обезображенным лицом». И как безвольно, заискивающе Иешуа просил Пилата в романе Мастера, так же он и теперь просит Воланда. И все те же идолы царят над Ершалаимом…
Вот тут и встает во всей своей кошмарности и серьезности вопрос о том, горят ли рукописи…
«РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ»
О том, сколь серьезно относился Воланд к тому, что он сотворил в соавторстве с Мастером, говорят его, к сожалению, знаменито-расхожие слова: «Рукописи не горят».
Отношение к этой фразе – примета, по которой можно отличить русского интеллигента от советского образованца. Никогда нельзя с полным своим согласием и восторгом цитировать сатану – даже литературного!
Да и зачем вообще цитировать заведомо ложный тезис? Рукописи горят и еще как горят! История литературы (в том числе и совестской) это слишком хорошо доказывает. Сколько книг знакомо нам только по упоминаниям об их существовании или по краткой цитации их древними читателями! Оттого с такой радостью и горечью одновременно читают современные историки литературные энциклопедии древности – «Строматы» Климента Александрийского и «Библиотеку» св. Фотия Константинопольского.
Но самое неприличное в этом модном цитировании другое. «Рукописи не горят» – это предмет предсмертного кошмара Булгакова, а не тезис его надежды.
Три больших произведения Булгакова обьединены этой общей темой: «Роковые яйца» (1925), «Собачье сердце» (1926), «Мастер и Маргарита» (начало работы – 1928). В «Роковых яйцах» змеи, доведенные учеными до размеров динозавров, мстят человечеству. В «Собачьем сердце» творение профессора Преображенского начинает покусывать своего создателя.
А в письме В. Вересаеву от 27 июля 1931 г. Булгаков прямо пишет об обратном вторжении созданных им персонажей в его жизнь: «…один человек с очень известной литературной фам,илией и большими связями… сказал мне тоном полу-уверенности:
— У Вас есть враг…
Я не мальчик и понимаю слово — „враг»… Я стал напрягать память. Есть десятки людей — в Москве, которые со скрежетом зубовным произносят мою фамилию. Но все это в мире литературном или околотеатральном, все это слабое, все это дышит на ладан. Где-нибудь в источнике подлинной силы как и чем я мог нажить врага?
И вдруг меня осенило! Я вспомнил фамилии! Это — А. Турбин, Кальсонер, Рокк и Хлудов (из «Бега»). Вот они, мои враги! Недаром во время бессонниц приходят они ко мне к говорят со мной: „Ты нас породил, а мы тебе все пути преградим. Лежи, фантаст, с загражденными устами». Тогда выходит, что мой главный враг – я сам»[119].
Вот и через последний булгаковский роман проходит скорбь о власти деяний над авторами этих деяний. Во второй полной рукописной редакции романа (1937-1938) на балу у сатаны появились Гете и Шарль Гуно. Первый – как автор поэмы «Фауст», второй – как автор оперы «Фауст». По Булгакову выходит, что они стали пленниками того демонического персонажа, которому отвели центральное место в своих произведениях.
Сожжение рукописи отнюдь не грех по Булгакову. Даже Иешуа призывает сжигать рукописи (о том, как он умолял Левия сжечь его рукопись, Иешуа рассказывает Пилату).
Пилат же мучительно пытается убедить себя в том, что он не делал той подлости, которая принесла ему слишком страшную популярность… Он «более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу» (гл. 32). «- Боги, боги, – говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще, – какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, – тут лицо из надменного превращается в умоляющее, – ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было? – Ну, конечно не было, – отвечает хриплым голосом спутник, – тебе это померещилось. – И ты можешь поклясться в этом? – заискивающе просит человек в плаще. – Клянусь, – отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются. – Больше мне ничего не нужно! – сорванным голосом вскрикивает человек в плаще»[120].
Это тема мучительной необратимости.
Покой, которого жаждут почти все герои романа – это избавление от прошлого, от памяти.
Фрида мечтает избавиться от платка, которым она задушила своего сына.
Мастер – от романа: ««Он мне ненавистен, этот роман», – ответил мастер» (гл. 24). «Память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя». А кто, кстати, отпускал Мастера? – Воланд, а отнюдь не Иешуа. Но отпустить может только тот, кто раньше держал в своей власти. Значит, и в самом деле Воланд водил судьбой и пером Мастера до этой финальной сцены…
Маргарита мечтала забыть о Мастере («Так пропадите же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой! Сидите здесь на скамейке одна и умоляйте его, чтобы он отпустил вас на свободу, дал дышать воздухом, ушел бы из памяти! – Я ничего не понимаю, – тихо заговорила Маргарита Николаевна, – про листки еще можно узнать… Но как вы могли узнать мои мысли?»).
Рюхина тошнит вообще от его жизни как таковой – «Через четверть часа Рюхин, в полном одиночестве, сидел, скорчившись над рыбцом, пил рюмку за рюмкой, понимая и признавая, что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а можно только забыть» (гл.6.)
«Ваше спасение сейчас только в одном – в полном покое», – говорит психиатр Ивану Бездомному (гл.8). Врач «сделал укол в руку Ивана и уверил его, что теперь все пройдет, все изменится и все забудется. Врач оказался прав. Тоска начала покидать Ивана тотчас после укола» (гл.11).
Память Ивана «исколота» так же, как и память Мастера, и потому забвение – высшая награда и для него. «Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтийский Пилат». Между прочим, это последняя фраза «Мастера и Маргариты»…[121]
Булгакову тоже было что забывать. «Теперь уже всякую ночь я смотрю не вперед, а назад, потому что в будущем я для себя ничего не вижу. В прошлом же я совершил пять роковых ошибок»[122]. Значит, были такие его рукописи, которые ему хотелось бы видеть сожженными и небывшими. Булгаков их не называет, но хотелось бы верить, что в их число он включил и свой фельетон «Главполитбогослужение» (Гудок. 24 июля 1924)[123]…
СВЕТ, ТЕНИ И СОФИСТИКА
«- Я к тебе, дух зла и повелитель теней, – ответил вошедший, исподлобья недружелюбно глядя на Воланда.
— Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей? – заговорил Воланд сурово.
— Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал, – ответил дерзко вошедший.
— Но тебе придется примириться с этим, – возразил Воланд, и усмешка искривила его рот, – не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость, и я тебе скажу, в чем она, – в твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп.
— Я не буду с тобой спорить, старый софист, – ответил Левий Матвей».
Вот самое заколдованное место во всем булгаковском романе. И поклонники Булгакова, и его враги видят в этом диалоге нечто очень авторское. Немалое же число первых видят в этом пассаже и некую «неопровержимую диалектическую логику».
Логика Воланда конечно, ослепила массу людей, чуждых культуре религиозой мысли. Бездомные образованцы (а русские интеллигенты без православия остаются бездомными в русской культуре) бросились восхвалять сатану как своего наконец-то найденного учителя: «Воланд – это олицетворенная в традиционном «дьявольском» облике абсолютная Истина»[124]. Позицию Воланда призывают «ценить как «вечно совершающую благо»«[125]. «Воланд – это сама жизнь, выражение некоей субстанции ее. Воланд безусловно несет в себе и начала зла, но только в том смысле, в каком олицетворением его является сам Христос, сама могучая ночь творения, где зло в то же время – и оборотная сторона Добра. Поэтому Воланд в романе как бы выражение самой диалектики жизни, ее сущности, некой абсолютной истины ее»[126]. «Шайка Воланда защищает добропорядочность, чистоту нравов»[127].
Так бессовестность и бескультурье приводят к тому, что в жажде оправдания Воланда шариковы от литературоведения и во Христе уже видят «олицетворение начала зла». Оккультное «двуединство» добра и зла, как им кажется, получило свое художественное воплощение и доказательство.
Для оккультистов (теософов, рериховцев и т.д.) Бог немыслим без Зла: «Это только естественно. Нельзя утверждать, что Бог есть синтез всей Вселенной, как Вездесущий, Всезнающий и Бесконечный, а затем отделить Его от Зла»[128].
В том мире, который рисует теософия, есть законное место для зла. Все происходящее в мире настолько интимно связано с пантеистическим Абсолютом, что даже Сатану оккультисты не желают лишать божественного почитания. Ведь «в Абсолюте зла как такового не существует, но в мире проявленном все противоположения налицо — свет и тьма, дух и материя, добро и зло. Советую очень усвоить первоосновы восточной философии — существование Единой Абсолютной Трансцендентальной реальности, ее двойственный Аспект в обусловленной Вселенной и иллюзорность или относительность всего проявленного. Действие противоположений производит гармонию. Если бы одна остановилась, действие другой немедленно стало бы разрушительным. Итак, мир проявленный держится в равновесии силами противодействующими. Добро на низшем плане может явиться злом на высшем, и наоборот. Отсюда и относительность всех понятий в мире проявленном»[129].
Оказывается, если бы зло прекратило свое действие в мире, гармоничность Вселенной разрушилась бы. Добро не может жить без зла, а Абсолют не может не проявлять себя через зло. Более того – для Блаватской и иных «эзотерических» слуг Воланда Добро вторично по отношению ко Злу. «Тень не есть Зло, но является нужным и необходимым соотношением, дополняющим Свет или Добро. Тень является создателем его (Добра) на земле»[130]. Христос говорит, что Свою жизнь Он имеет от Отца, а не от Змея или Зла. У теософов своя точка зрения.
Они всегда готовы как к издевкам над Богом Библии, так и к защите сатаны: «Когда Церковь проклинает Сатану, она проклинает космическое отражение Бога, она предает анафеме Бога, проявленного в Материи или в объективности»[131]. Во-во, и Воланд считается у безбожных булгаковедов «объективным» и «справедливым»…
Так что если в романе Мастера излагается философия Толстого, то от себя Воланд излагает философию Блаватской-Рерихов.
Но Левий вполне справедливо называет эти построения софистикой.
Ведь он называет Воланда «повелителем теней» в смысле мистическом («владыка призраков и демонов»). Воланд же опровергает тезис Левия, понимая слово тень в смысле физическом.
Но что касается физических света и тьмы, то с библейской точки зрения они равно созданы Богом и управляются Им: «Ты простираешь тьму и бывает ночь» (Пс. 103,20).
Тень физическая – конечно, благо для людей Библии, живущих на границе с пустыней: «Вот, Царь будет царствовать по Правде, и Князья будут править по Закону, и каждый из них будет, как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей» (Ис. 32,1-2).
Но чтобы познать Бога, совсем не обязательно общаться с тенями-привидениями.
Если под тенью иметь в виду зло, то прикосновение к нему никак не является необходимым условием жизни и Богопричастия. Совсем не всё познается в сравнении. Неужели мать может испытать любовь к своему младенцу, лишь если она лишится его? Неужели без знакомства с «Коррозией металла» не понять красоту Моцарта? Неужели нельзя порадоваться звездам над головой, если перед этим не заглянуть в глаз Воланда – «пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней»?
Добро первично и самодостаточно. С онтологической точки зрения оно имеет опору в Боге, а не в сатане. С гносеологической же точки зрения добро обладает достаточной силой убедительности для человеческой совести, чтобы не нуждаться в помощи и рекомендациях зла.
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1,5). Бог не нуждается в «тенях», расставляемых сатаной – Он Сам может ограничивать Свои проявления в мире и умерять их так, чтобы для людей они были вместимы. Богословы это называют словом «кенозис» («самоумаление»). Церковные люди в таких случаях вспоминают преображенскую молитву – апостолы вместили Свет «якоже можаху». А на простом языке это называется просто любовью.
Не тем себя Сиянье возвеличило,
Что светит в беспредельной высоте.
А тем, что добровольно ограничило
Себя росинкой на листе (Рабиндранат Тагор)…
Воланду такое любящее само-ограничение Света непонятно: «Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?». И потому он себя предлагает в качестве внешнего «регулятора», умеряющего свет.
Но напрасно Воланд приписывает Свету желание уничтожить все то, что не является Богом. Ненависть к жизни – свойство не Бога, а Воланда. Мир тварной, небожественной жизни создан Богом, а отнюдь не сатаной. И Бог не уничтожает Свое создание.
Христианство – не пантеизм. Оно не считает, что лишь Божество имеет право на существование. Бог пожелал, чтобы в бытии были другие жизни, нежели Его Собственная.
Радуга – от Бога. Палитра – от Творца. «И этому чуду подивимся, как разнообразны человеческие лица; не у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица, по Божьей мудрости» (Поучение Владимира Мономаха)[132].
Можно жить в мире, видеть мир, любоваться миром. Эксплуатировать его нельзя. «Ум духовный, созерцая все, рассуждает бесстрастно. Какую дивную красоту видит он, но без похоти» (преп. Симеон Новый Богослов. Гимн 41)[133].
Так что пусть растут деревья, пусть будут тени на земле. Но из человеческой души тени и призраки лучше изгонять. И старых софистов, оправдывающих свое право на зло, слушать не стоит.
Свет, который Воланд называет «голым», в мистике именуется «чистым». Это луч от Бога, без примеси «слишком человеческого». Мистики самых разных религий переживают прикосновение этого света так интенсивно, что не желает дробить свое зрение вмещением в него чего бы то ни было иного – в том числе и себя самих. Уже древнеегипетский мистик обращался к Началу: «В видении Тебя забывает себя сердце. Из очей Твоих произошли люди. Ничтожны все молитвы, когда ты глаголешь. Слава Тебе, истощившему Себя нас ради» (Папирус Булаг. Гимн 3; перевод А. Б. Зубова).
Свет и радость – синонимы в мистике. Поэтому мрачность Левия означает, что он никак не есть вестник Света. Не из Рая Христова он исшел, а из болящего сознания Мастера…
«Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла?». – Божественное Добро дарило бы Себя людям без всякого препятствия. Человеческое же добро восходило бы к еще большему Свету и добру. «Мы же все открытым лицом взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу» (2 Кор. 3,18). «В доме Отца Моего обителей много» (Ин. 14,2). И поэтому не стоит считать, что единственное возможное направление перемещений – из света во тьму, от Бога – к Воланду. В мире Света есть куда восходить. Бесконечность – у Света. У Воланда лишь узкие провалы-бездны.
Но именно потому, что Свет есть высшая радость, Господь до поры не дарует ее искателям в полноте. Преподобный Макарий Египетский говорит, что совершенный человек, если бы видел все тайны Царства,»только стал бы сидеть в одном углу» – а посему-то совершенная мера не дана ему, чтобы мог он заниматься попечением о братии и служением слову[134]. Свет Преображения навещает, но не навсегда остается с апостолами и святыми. Но когда он умеряет себя, это отнюдь не значит, что настала пора теней и призраков. Нет – настает время менее явных, но духовных даров и время человеческого творчества. Между Фаворским светом и клыком Азазелло – огромное пространство. Они не соседствуют[135]. Господь может подарить людям разнообразие без помощи сатаны.
Смысл добра – не в вечной «борьбе», а в созидании, восхождении. Поэтому ему и не нужны вечные враги. Добру есть что делать без постоянной оглядки на зло.
ЕСТЬ ЛИ ЗАЩИТА ОТ ВОЛАНДА?
Воланд, конечно, не считает свои силы ограниченными. Но есть в романе две сцены, которые показывают, что и у него есть некий весьма могущественный противник.
Первый эпизод: буфетчик выходит из проклятой квартиры, где он требовал настоящих денег вместо фальшивых. «Голове его почему-то было неудобно и слишком тепло в шляпе; он снял ее и, подпрыгнув от страха, тихо вскрикнул. В руках у него был бархатный берет с петушьим потрепанным пером. Буфетчик перекрестился. В то же мгновение берет мяукнул, превратился в черного котенка и, вскочив обратно на голову Андрею Фокичу, всеми когтями вцепился в его лысину. Испустив крик отчаяния, буфетчик кинулся бежать вниз, а котенок свалился с головы и брызнул вверх по лестнице». Буфетчик вообще «богобоязнен»: его покоробило от того, что стол в комнате Воланда был покрыт церковной парчой, от Аннушки он отстраняется словами «оставь, Христа ради» и сбегает по лестнице, крестясь. Свою жизнь он доживает уже вне буфетного мухлежа (тем более странно, что в фильме В. Бортко буфетчик ни разу не крестится).
Второй эпизод – когда Азазелло уносит души Мастера и Маргариты на конях-призраках (фестралах). «Трое черных коней храпели у сарая… Маргарита вскочила первая, за нею Азазелло, последним мастер. Кухарка, застонав, хотела поднять руку для крестного знамения, но Азазелло грозно закричал с седла: – Отрежу руку! – он свистнул, и кони, ломая ветви лип, взвились и вонзились в низкую черную тучу».
Как видим, крестное знамение крайне неприятно для воландовской нечисти. Безнадежно расцерковленный читатель 60-70-х годов этой детальки не понимал. Но современники Булгакова еще прекрасно помнили эти вещи. И вполне могли заметить эту неувязочку. Ведь если верить Воланду (и атеистической пропаганде), то на кресте был распят просто философствующий неудачник. Бояться креста в таком случае не больше поводов, чем страшиться изображения собак, когда-то растерзавших Гераклита[136] или пугаться рисунка чаши, из которой испил свою смерть Сократ.
Так отчего же образ креста, крестное знамение так страшит сатанистов? Значит, последствия Распятия – нечто гораздо большее, нежели прогулка «молодого человека»[137] с Понтием Пилатом по дорожке лунного света… И распят был на том Кресте, наверно, не просто «молодой человек». Кстати, во всем тексте романа Мастера ни разу не употребляется слова «крест» и «распятие».
У Гете при первой встрече Фауста с Мефистофелем действие крестной силы описано точно:
Вот символ святой,
И в дрожь тебя кинет,
Так страшен он вашей всей шайке клятой.
Гляди-ка, от ужаса шерсть он щетинит!
Глазами своими
Бесстыжими, враг,
Прочтешь ли ты имя,
Осилишь ли знак
Несотворенного, Неизреченного,
С неба сошедшего,
В лето Пилатово
Нашего ради спасенья распятого[138].
И еще говорящая деталь: когда Воланд осматривает Москву с крыши дома Пашкова, «Его длинная широкая шпага была воткнута между двумя рассекшимися плитами террасы вертикально, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны».
Эта подробность непонятна без знакомства с либретто оперы Шарля Гуно «Фауст» (у Гете этой сцены нет).
Мефистофель шпагой протыкает бочонок, нарисованный на вывеске таверны и просит «господа Бахуса» излить вина. Из рисунка хлещет вино. Брат Маргариты Валентин отказывается принять такой дар – тогда вино вспыхивает огнем. Упоминание Мефистофелем имени Маргариты заставляет Валентина обнажить шпагу. Но его шпага разбивается на куски в воздухе, даже не входя в соприкосновение со шпагой Мефистофеля… Валентин понимает, что перед ним сатана. Мефистофель же своей шпагой очерчивает круг вокруг себя.
Дальше есть примечательное расхождение между партитурами оперы на русском и французском (оригинальном) языках. По русски: «Мы разрушим демона власть и сразимся мы с силой тьмы!». В оригинале все более трагично: «Из ада пришел тот, кто затупил наше оружие. Мы не можем отбить чары».
И тут Валентин восклицает: «Но поскольку ты разбиваешь сталь, смотри! Вот крест святой, он нас спасет от ада!»
Тут Валентин и его друзья обращают свои шпаги острием вниз, а, значит, крестообразными рукоятками – вверх. И так, зажав в руках шпаги, которым они придали значение Креста, они наступают на Мефистофеля. Тот судорожно корчится, будучи не в состоянии выносить вида креста. В конце концов под защитой креста вся компания уходит от Мефистофеля…
Но в Москве Храма Христа нет. Кресты снесены. Осталась лишь тень от креста. Тень не может бороться с «повелителем теней»; она покорно «подползает к туфлям».
Булгаков демонстрирует хорошее знание церковного богословия: геометрическое перекрестие не есть Крест. Точнее – и оно может стать Крестом, если тот, кто смотрит на него, сопрягает с ним смысл Креста. Если я в минуту беспомощности в кресле у стоматолога смотрю в оконный переплет и в этом переплете вижу образ Креста, то для моей молитвы эта обычная оконная рама становится Крестом. Но если некто наносит тату в виде распятия или носит крест как бижутерию –то для его души даже самое каноническое по форме Распятие не будет защитой.
Поэтому и не нужно никакого внешнего церковного действия для освящения Креста: «Крест бо освятился есть кровью Христовою и освящает вся – люди и воду, а креста никтоже», – объяснил владимирский собор 1274 года[139]. Поэтому и обломок шпаги может стать образом креста, иконой в ту же минуту, когда христианин пожелал видеть его в таком качестве, минуя посещение храма и церковный обряд, совершаемый священником. «Иконе Христовой надо воздавать поклонение не как веществу, но как самому Христу, ибо чествование образа восходит к Первообразу и действием ума вещество не смешивается с начертанным образом»[140].
Поскольку же христианина рядом с Воландом на московской крыше не было[141], а сам Воланд явно не намерен действием своего ума отождествлять тень от шпаги с Крестом Христовым, то для него тень остается тенью, геометрия – геометрией.
В «Фаусте» Шарля Гуно (а эту оперу Булгаков слушал неоднократно) также упомянуты церковные средства защиты от злой силы: Мефистофель налагает на Зибеля (друг Валентина – брата Маргариты) проклятие: все цветы, что он срывает для Маргариты, тут же вянут. Но Зибель омывает руки святой водой – и чары разрушаются. Валентин же в решающую минуту оказывается беззащитен перед Фаустом и Мефистофелем потому, что в досаде на свою сестру он срывает с шеи святой образок, подаренный ему Маргаритой и бросает его на землю. Мефистофель тут же шепчет про себя: «Ты об этом пожалеешь!».
Так что упоминание церковных таинств как силы, более могущественной, чем сатана, было вполне в традиции европейской фаустианы (или же, шире – «готического романа»). Булгакову нужно было лишь намекнуть на нее – и у образованных читателей возникал вполне ясный и четкий ассоциативный ряд.
Этот намек Булгаков и делает упоминанием о реакции нечистой силы на крестное знамение. Эти детали тем более выразительны, что в окончательном тексте романа церковная тематика полностью отсутствует. Крестное знамение, да иконка, за которой прячется Иван Бездомный – вот и все признаки существования Церкви в булгаковской Москве. Но sapienti – sat[142].
Да, и еще об одном Воланд проговаривается: у него нет власти над философом, доказавшим бытие Бога – Кантом: «Он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!». Тот, кто собирает на свой бал Калигулу и Мессалину и прочих негодяев всех веков, «никоим образом» не может потревожить Канта. Это не его «ведомство». Так что неправа Маргарита, восклицающая в адрес князя тьмы – «Всесилен!».
ЕСТЬ ЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЖИ В РОМАНЕ?
В рукописях таких сцен религиозного обращения было больше. В черновиках остался единственный персонаж романа, которого можно было бы назвать положительным. Как ни странно, этим единственным положительным персонажем оказывался Никанор Босой. Его грехи не переезжали человеческие судьбы. Он взяточник, а не людоед, не доносчик и не палач. Он – единственный, кто признал наказание себе заслуженным: «- Бог истинный, бог всемогущий, – заговорил Никанор Иванович, – все видит, а мне туда и дорога. Господь меня наказует за скверну мою, – с чувством продолжал Никанор Иванович, то застегивая рубашку, то расстегивая, то крестясь, – брал!». Его покаяние осталось уникальным в романе по своей глубине и необратимости.
Вот как это было в черновиках:
«Шатаясь, с мертвыми глазами, налитыми темной кровью, Никанор Иванович Босой, член кружка «Безбожник», положил на себя крестное знамение и прохрипел: – Никогда валюты в руках не держал, товарищи, Богом клянусь!»… С того момента, как Никанора Ивановича Босого взяли под руки и вывели ворота, он не сомневался в том, что его ведут в тюрьму. И странное, никогда еще в жизни не испытанное им чувство охватило его. Никанор Иванович глянул на раскаленное солнце над Садовой улицей и вдруг сообразил, что прежняя его жизнь кончена, а начинается новая. Какова она будет, Никанор Иванович не знал, да и не очень опасался, что ему угрожает что-нибудь страшное. Но Никанор Иванович неожиданно понял, что человек после тюрьмы не то что становится новым человеком, но даже как бы обязан им стать. Как будто внезапно макнули Никанора Ивановича в котел, вынули и стал новый Никанор Иванович на прежнего совершенно не похожий»[143].
В более ранних черновиках (1928-31 гг.) этот же персонаж говорит тем, кто его арестовывает: «- Я пострадать хочу… Христом-Богом клянусь. – Что это вы, партийный, а все время Бога упоминаете? Веруете? – А в Бога Господа верую. Верую с сего 10 июня и во диавола… Полон я скверны был, людей и Бога обманывал, но с ложью не дорогами ходишь. А потом и споткнешься. В тюрьму сяду с фактическим наслаждением»[144].
В 1933 году Булгаков (после ареста некоторых вхожих в его дом людей) удалил из романа следующие слова, свидетельствовавшие о том, что Босой перестал быть комическим персонажем: «Вовсе не потому, что москвич Босой знал эти места, был наслышан о них, нет, просто иным каким-то способом, кожей, что ли, Босой понял, что его ведут для того, чтобы совершить с ним самое ужасное, что могут совершить с человеком, – лишить свободы»[145]. Кстати, эта фраза о «кожном знании» объясняет фамилию персонажа – «Босой»…
Оголенная кожа, связанная, правда, уже не со знанием, а с верой, равно как и готовность страданием искупить свое неверие были в булгаковских черновиках упомянуты и в связи с реакцией Ивана Бездомного на нечисть. В окончательном варианте романа сказано: «Никому не известно, какая тут мысль овладела Иваном, но только, прежде чем выбежать на черный ход, он присвоил одну из этих свечей, а также и бумажную иконку. Вместе с этими предметами он покинул неизвестную квартиру» (гл. 4). «Он был бос, к груди английской булавкой была приколота бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого. В руке Иван Николаевич нес зажженную венчальную свечу» (гл. 5).
В редакции романа 1928 года об этой иконке сказано больше. Она приколота к голому тела Ивана, причем Иван поясняет, что это его добровольное мученичество: надо «кровушку пустить», чтобы искупить свое кощунство – «Я Господа нашего Христа истоптал сапожищами»[146].
Затем эту слишком яркую черту Булгаков будет смягчать. В варианте 1937 года икона названа по имени: это икона Христа[147]. Причем Иван поясняет: «без нее его (Воланда) не поймаешь»[148]. Икона по прежнему приколота к груди Ивана, но мотив этой боли уже вполне посюсторонний: чтобы свободной рукой легче было задерживать преступников[149].
Однако, и в этом варианте Иван, войдя в писательский ресторан, переходит на церковную лексику: «Здорово, братья»[150] (совсем скоро об этом слове вспомнит и Сталин – в катастрофическом июле 1941 года он поразит советскую страну своим непартийным обращением: «Братья и сёстры!»).
Кстати, Иван именно в минуту своего религиозного обращения ведет себя отнюдь не как Иешуа (значит, и обращен он был не в «евангелие Воланда»): «Товарищ Понырев! Помилуйте! – ответило лицо. – Нет! Уж кого-кого, а тебя-то я не помилую, – с тихой ненавистью сказал Иван и, неожиданно размахнувшись, ударил по уху это лицо»[151]. Лицо, кстати, было «ласковое мясистое, бритое и упитанное, в роговых очках», которых оно лишилось «исключительно за свою страсть к произнесению умиротворящих речей». Это лицо предлагает «возьмите покой», а получает «лицо по морде»[152].
Впрочем, Иван ищет не встречи с Богом, не истины в Боге; он просто искал в Нем минутной защиты. Прошел испуг – исчезла и минутная религиозность Ивана. Оттого уже после первых же процедур в психлечебнице он говорит: «Меня же сейчас более всего интересует Понтий Пилат… Пилат… – тут он закрыл глаза». В «Князе тьмы»: «интересно мне теперь только одно: что было с Понтием Пилатом»[153]. Христос Ивану не интересен. В «Князе тьмы» Иван еще просит выдать ему Евангелие («хочу проверить, правду ли он говорил»[154]), но в «Мастере и Маргарите» этой детали уже нет. Оттого и окажется он в эпилоге «красным профессором». Так что обращение Ивана было временным. Но – было.
Подобное религиозное обращения может показаться карикатурным. Оно должно было казаться таковым цензорам. Но слишком серьезные слова и мысли Булгаков вкладывает в эти эпизоды своих книг, и паяцы становятся чем-то живым и серьезным. Они как юродивые получают право вслух сказать то, чего говорить вообще-то нельзя…
Вот вполне пошленький певец «колхозного счастья» писатель Пончик говорит в булгаковской пьесе «Адам и Ева» (1931 г.): «Пончик (в безумии). Самое главное – сохранить ум и не думать и не ломать голову над тем, почему я остался жить один. Господи! Господи! (Крестится.) Прости меня за то, что я сотрудничал в «Безбожнике». Прости, дорогой Господи! Перед людьми я мог бы отпереться, так как подписывался псевдонимом, но тебе не совру – это был именно я! Я сотрудничал в «Безбожнике» по легкомыслию. Скажу тебе одному, Господи, что я верующий человек до мозга костей и ненавижу коммунизм. И даю тебе обещание перед лицом мертвых, если ты научишь меня, как уйти из города и сохранить жизнь, – я… (Вынимает рукопись.) Матерь Божия, но на колхозы ты не в претензии?.. Ну что особенного? Ну, мужики были порознь, ну, а теперь будут вместе. Какая разница, Господи? Не пропадут они, окаянные! Воззри, о Господи, на погибающего раба твоего Пончика-Непобеду, спаси его! Я православный. Господи, и дед мой служил в консистории. (Поднимается с колен.) Что ж это со мной? я кажется, свихнулся со страху, признаюсь в этом. (Вскрикивает.) Не сводите меня с ума! Чего я ищу? Хоть бы один человек, который научил бы… Это коммунистическое упрямство… Тупейшая уверенность в том, что СССР победит… Слушай! Был СССР и перестал быть. Мертвое пространство загорожено, и написано: «Чума. Вход воспрещается». Вот к чему привело столкновение с культурой… Будь он проклят, коммунизм!».
Конечно, такая пьеса не была ни поставлена, ни опубликована при жизни Булгакова. Булгаков и не боролся за ее постановку. А вот свой роман он хотел видеть опубликованным. И поэтому столь откровенные религиозные обращения в окончательно-цензурный текст Булгаков не включил. Но некоторые намеки на ту силу, которая может противостоять Воланду эффективнее, чем «мотоциклы с пулеметами», все же остались.
Теперь вернемся к Ивану Бездомному.
Мне искренне жаль школьных учителей, которые вынуждены преподавать по учебникам литературы, авторы коих испытывают очевидные затруднения с умением понимать читаемое. Авторам литучебников отчего-то хочется видеть в Иване Бездомном положительного героя. Наверно, сказывается в них собственная тоска по профессорскому званию, вот и благоговеют они перед этим титулом, с коим в эпилоге романа предстает Бездомный.
«Одни герои нашли подлинные нравственные ценности (Иван Бездомный обретает дом и – что символично – становится профессором истории,.. серьезным ученым)[155]. «Подлинным героем становится Иван Понырев (бывший поэт Бездомный), сумевший вырваться из-под губительного влияния Берлиоза и вновь обретший свой Дом – Родину и ставший профессором истории»[156].
Да неужели получение от советской власти квартиры и профессорского звания достаточно для того, чтобы считаться положительным героем (да еще в глазах Булгакова)!
Вот рассказ Булгакова о карьере Понырева: «человек лет тридцати или тридцати с лишним. Это – сотрудник института истории и философии, профессор…».
Сначала – о возрасте. Прощание с Берлиозом происходит, когда Ивану было 23 года. Значит, он родился в канун Мировой войны, в школу до революции пойти не успел. Школьный его возраст приходился на годы революции, гражданской войны и разрухи. Все его образование – начально-советское (в смысле образование начальных лет соввласти, когда советская система образования еще не сложилась, а классическая система была уже разрушена).
Что с историей Иванушка был знаком плохо, показывает то, что вполне расхожие речи Берлиоза про древних богов и их взаимное сходство Иван слушает как совершеннейшее откровение («поэт, для которого все, сообщаемое редактором, являлось новостью»).
Он не читал Евангелия и впервые пробует это делать в психбольнице, чтобы сравнить рассказ Воланда: «Несмотря на то, что Иван был малограмотным человеком, он догадался, где нужно искать сведений о Пилате…»[157].
«Про композитора Берлиоза он не слыхал»[158]. О шизофрении ему предстоит получить первую информацию уже в психушке («Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у него, Иван Николаевич!»).
С «Фаустом» (будь то Гете, будь то Гуно) не знаком: «Простите, может быть, впрочем, вы даже оперы «Фауст» не слыхали? Иван почему-то страшнейшим образом сконфузился и с пылающим лицом что-то начал бормотать про какую-то поездку в санаторий в Ялту…».
«Илиаду», цитируемую Воландом, он также не узнает и не понимает[159].
И раз уж он был намерен Канта послать в Соловки, то ничего Иванушка не знал ни о времени жизни Канта, ни о его национальности, ни о его философии.
Иностранных языков не знает (знакомство Мастера с языками вызывает у Ивана приступ зависти).
Если в эпилоге Ивану 30 – значит, прошло всего семь лет. За семь лет пройти путь от невежественного[160] поэта-атеиста до профессора – это из области тех чудес, которые могли иметь место только в ненавистной Булгакову Советской России.
Столь стремительную карьеру в гуманитарных науках делали только товарищи, доказавшие свою исключительную преданность линии партии. Для историка такая стремительная карьера невозможна. А вот для идеолога-философа в те годы она была весьма вероятна. Нет, не историк профессор Понырев, а философ. «Красный профессор», «выдвиженец». И раз он философ столь успешный, карьерный, то, значит, философ-сталинец, то есть воинствующий атеист. Таким был, например, Марк Борисович Митин – проповедник идеи, согласно которой философия есть лишь форма политики, назначенный Сталиным в академики в 1939 году, минуя защиту докторской диссертации. В предисловии к сборнику «Боевые вопросы материалистической диалектики» (1936 г.) он писал, что при рассмотрении всех проблем философии он «руководствовался одной идеей: как лучше понять каждое слово и каждую мысль нашего любимого и мудрого учителя товарища Сталина». Коллеги называли его «Мрак Борисович»…[161]
Да, Бездомный обрел свой дом. Точнее – советская власть ему дала квартиру. Наверно, было за что.
Предал, предал профессор Понырев ту свою ночь прозрения и покаяния. Отрекся от бумажной иконки с ликом Христа – даже зная правду о Воланде… Он предпочел предать свой же собственный опыт и поверить легкому, удобному официальному мифу: «Он знает, что в молодости он стал жертвой преступных гипнотизеров, лечился после этого и вылечился».
Бездомный свою-то историю не понял и исказил – так что не стоит восхищаться его якобы «серьезными учеными трудами». Неужели не чувствуете вы издевательской булгаковской интонации – «Ивану Николаевичу все известно, он все знает и понимает»?
Это – «новый Иван» (вспомним главу «Раздвоение Ивана»). Его не печалят такие мелочи, как убийства людей. «Важное, в самом деле, происшествие – редактора журнала задавило!».
Иван пробовал записать «роман о Пилате» еще в больнице (когда писал заявление в милицию), но не справился с этой работой. Ему был сделан укол, и этот укол примирил его с действительностью: «Иван опять прилег и сам подивился тому, как изменились его мысли. Как-то смягчился в памяти проклятый бесовский кот, не пугала более отрезанная голова, и, покинув мысль о ней, стал размышлять Иван о том, что, по сути дела, в клинике очень неплохо, что Стравинский умница и знаменитость и что иметь с ним дело чрезвычайно приятно».
Вот так же и профессора Понырева жена накачивает уколами «с жидкостью густого чайного цвета», и Понырева начинает все устраивать и в снах, и в жизни.
Место работы Понырева Булгаков указывает довольно точно и узнаваемо – «институт истории и философии». С 1936 года Институт истории АН СССР и Институт философии АН СССР работали в одном здании по адресу Волхонка, 14. Как раз между домом Пашкова и взорванным Храмом Христа Спасителя. Вот и Бездомный застрял где-то посредине между чернокнижием (именно с ним в романе ассоциируются подвалы дома Пашкова) и воинствующим атеизмом, взрывающим храмы. Религиозная жизнь Понырева сводится к воздыханиям «боги, боги», весьма странным как для уст русского интеллигента, воспитанного в традиции христианского и философского монотеизма, так и для речи атеиста…
Альфред Барков убедительно показывает, как совместные усилия советской психлечебницы, Мастера, Маргариты и Воланда превращают Ивана в Иванушку. Вместо талантливого поэта (раз ему удался образ Христа «ну прямо как живой» – значит, независимо от идеологии, все же литературный талант был) – лунатик…[162] Это аргументированное исследование стоит сопоставить с фантазиями тех, кто поучает наших детей.
Правда, к числу таких, учащих и все же странных интерпретаторов, к сожалению, приходится отнести и ведущего современного булгаковеда – М. О. Чудакову. На мое замечание, что человек не может за семь лет пройти путь от неуча до профессора истории, Мариэтта Омаровна заметила, что мой путь от студента кафедры атеизма к студенту семинарии был еще короче. Это верно. Когда речь идет о перемене взглядов человека и о покаянии, то перемена может занять и не семь лет и не год, а одну секунду[163]. Но когда речь идет о научном профессиональном рсоте, то тут таких чудес не бывает (даже в житиях святых можно узнать только о чудесном обучении грамоте отрока Варфолемея, но и тут мы не найдем чудесных рождений специалистов-историков). В той нашей дискуссии (на телеканале «Россия»в январе 2006 года) М.О. Чудакову[164] поддержал В. В. Бортко. По его мнению, в финале мы выидим двух преображенных людей, которые оторвались от суеты, пощанли истину и неотрывно смотрят на лунную дорожку… Не могу согласиться и с этим хотя бы по той причине, что один из этих двух «преображенных» – Николай Иванович, бывший (?) боров. Он если что и познал – то не истину, а домработницу Наташу. По ней и вздыхает. Напомню булгаковский текст:
«Он увидит сидящего на скамеечке пожилого и солидного человека с бородкой, в пенсне и с чуть-чуть поросячьими чертами лица. Иван Николаевич всегда застает этого обитателя особняка в одной и той же мечтательной позе, со взором, обращенным к луне. Ивану Николаевичу известно, что, полюбовавшись луной, сидящий непременно переведет глаза на окна фонаря и упрется в них, как бы ожидая, что сейчас они распахнутся и появится на подоконнике что-то необыкновенное. Сидящий начнет беспокойно вертеть головой, блуждающими глазами ловить что-то в воздухе, непременно восторженно улыбаться, а затем он вдруг всплеснет руками в какой-то сладостной тоске, а затем уж и просто и довольно громко будет бормотать: – Венера! Венера!.. Эх я, дурак!.. – Боги, боги! – начнет шептать Иван Николаевич, прячась за решеткой и не сводя разгорающихся глаз с таинственного неизвестного, – вот еще одна жертва луны… Да, это еще одна жертва, вроде меня. А сидящий будет продолжать свои речи: – Эх я, дурак! Зачем, зачем я не улетел с нею? Чего я испугался, старый осел! Бумажку выправил! Эх, терпи теперь, старый кретин! Так будет продолжаться до тех пор, пока не стукнет в темной части особняка окно, не появится в нем что-то беловатое и не раздастся неприятный женский голос: – Николай Иванович, где вы? Что это за фантазии? Малярию хотите подцепить? Идите чай пить! Тут, конечно, сидящий очнется и ответит голосом лживым: – Воздухом, воздухом хотел подышать, душенька моя! Воздух уж очень хорош! И тут он поднимется со скамейки, украдкой погрозит кулаком закрывающемуся внизу окну и поплетется в дом. – Лжет он, лжет! О, боги, как он лжет! – бормочет, уходя от решетки, Иван Николаевич, – вовсе не воздух влечет его в сад, он что-то видит в это весеннее полнолуние на луне и в саду, в высоте. Ах, дорого бы я дал, чтобы проникнуть в его тайну, чтобы знать, какую такую Венеру он утратил и теперь бесплодно шарит руками в воздухе, ловит ее?».
Ну мы-то, знаем, какую Венеру ищет «лгун с чуть-чуть поросячьими чертами лица».
И у Иванушки тоже трудно заметить духовное преображение. Последнее не стоит путать с удачным карьерным ростом. Он пошел легким путем и уверил себя, что был он «жертвой преступных гипнотизеров».
Нет в романе положительных персонажей. А есть инерция его антсоветского чтения. В поздние советские годы люди «нашего круга» считали недопустимым замечать и осуждать художественные провалы и недостатки стихов Галича или Высоцкого. Считалось недопустимым критиковать какие-то тезисы Академика Сахарова. Главное – гражданская и антисоветская позиция. Она – индульгенция на все. Диссидентство булгаковского романа было очевидным для всех. Это означало, что центральные герои романа, выпавшие из советских будней или противоставшие им, обязаны восприниматься как всецело положительные. Воланд, Бегемот, Коровьев, Азазелло, Мастер, Маргарита, Иешуа могли получать оценки только в диапазоне от «как смешно!» до «как возвышенно!». Сегодня же уже не надо пояснять, что можно быть человеком и несоветским и неслишком совестливым.
Булгаковский роман сложнее порождаемых им восторгов. Свет и тьма в нем перемешаны, и хотя бы потому никого из его персонажей не стоит возводить в степень нравственного идеала. И даже если в Мастере и в Маргарите увидеть автобиографические черты (что-то в Мастера Булгаков вложил от себя самого, а в Маргариту – что-то от своих жен), то и в этом случае еще нельзя считать доказанным положительное отношение самого автора к этим своим персонажам. Ведь он мог быть не в восторге и от себя самого, и от каких-то черточек своих женщин.
СКОРО ЛИ ПАСХА?
В европейской фаустиане действие начинается на Пасху. Так в поэме Гете. Так в операх Берлиоза и Гуно – всюду звучит «Христос воскресе» (правда, что касается творения Гуно – то лишь во французском оригинале)[165]. Есть ли пасхальная тема у Булгакова?
Вроде бы и храмов в его романе нет. Только когда Воланд покидает Москву, писатель отмечает, что в ней все же были христианские церкви: с Воробьевых гор нечисть сверху вниз взирает на Москву и «на пряничные башни девичьего монастыря» (гл. 31).
Этот монастырь, вдруг мелькнувший в сцене отлета нечисти из Москвы, мог бы показаться чисто географической случайностью, если бы не время этого улета. В романе постоянно подчеркивается, что Москва залита светом весеннего полнолуния[166]. И действие романа разворачивается на пространстве от среды[167] до воскресной ночи[168]. Сопоставляем: первое воскресенье после весеннего полнолуния… Да это же формула православной Пасхи! В эпилоге вполне прямо намекается на это: «Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолуние…». А если учесть неоднократные упоминания о мае, выйдет, что речь идет о поздней Пасхе. Это, в свою очередь, значит, что 14 нисана иудейского календаря (время действия «пилатовых глав») осталось далеко позади. События разворачиваются на Страстной седмице православного литургического календаря.
Так в окончательной версии (поначалу действие разворачивалось в июне и лишь при итоговой доработке перенесено на май) московский роман развивается в кощунственной параллели с богослужебным календарем (вновь напомню: кощунственен не роман Булгакова. Кощунственна жизнь москвичей и действия сатанистов, изображенных в нем).
В Страстную среду Иуда встречался с синедрионом. И роман начинается с Великой Среды: атеистический синедрион (Берлиоз и Бездомный) решает, как еще раз побольнее уязвить Христа. В Страстную среду жена изливает миро (благовонное масло) на голову Иисуса (Мф. 26). В московскую среду голова Берлиоза катится по маслу, пролитому другой женой (Аннушкой) на трамвайные пути.
Сеанс в варьете приходится на «службу 12 евангелий» – вечер Великого Четверга, когда во всех храмах читаются евангельские рассказы о страданиях Христа. Издевательства Воланда над москвичами (которые сами, впрочем, предпочли быть в варьете, а не в храме) идут в те часы, когда христиане переживают евангельский рассказ об издевательствах над Христом. В эти часы этого дня как раз очень ясное деление: где собираются русские люди, а где – «совки». Именно последние в своем «храме культуры» оказались беззащитны перед Воландом. В 30-е годы население СССР было еще наполовину религиозно (по данным переписи 1937 года)[169]. Другая половина, уже отказавшаяся от личной религиозности, также была неоднородна. Многие по доброму помнили семейные церковные традиции. А вечер «чистого четверга» – это особое время. Это «четверговый огонь», разносимый из храма по домам и по всем комнатам дома… И чтобы в этот, самый эмоционально насыщенный вечер церковно-народного календаря пойти не в гости, не в библиотеку или в обычный театр, а в варьете, да еще на сеанс черной магии – надо было быть совсем уж «отморозком». Так что не среднестастистические москвичи пришил пред очи Воланда на его смотр, а весьма своеобразный контингент. Это были люди, давно снявшие с себя нательные крестики и смывшие с души все следы христианского воспитания. Вот они и оказались беззащитны перед князем тьмы…
Утром в Страстную пятницу апостолы стояли за линией оцепления, с ужасом наблюдая за голгофской казнью. Утро же этой Страстной пятницы москвичи проводят тоже в окружении милиции, но это оцепление ограждает очередь «халявщиков», давящихся за билетами в варьете. В храме в это время идет чтение Часов. Булгаков так же по часам фиксирует разрастание и распад этой очереди.
Шествие с гробом безголового Берлиоза оказывается атеистическим суррогатом пятничного хода с Плащаницей.
Бал у сатаны идет в ночь с Пятницы на Субботу. Маргарита дважды купается в кровавом бассейне. В древней Церкви именно в ночь на Великую Субботу оглашенные принимали крещение в баптистериях – в образ смерти и воскресения Спасителя…
Но до Пасхи дело не доходит: Воланд не может остаться в Москве Пасхальной: «- Мессир! Суббота. Солнце склоняется. Нам пора». И из Пасхи же убегают Мастер с Маргаритой. Эта московская православная Пасха нигде в романе не упоминается. Но события ведут к ней. И Воланду отчего-то не хочется продлевать свое пребывание в Москве…
Когда-то евреи убегали из Египта. Они были странниками, они были гонимы. У них не было своей земли, на которой они могли бы построить свой Храм, Храм в честь своего Бога, а не в честь имперских божков. Раз Храм нельзя построить на земле, в пространстве – его надо строить в четвертом измерении. Во времени. Суббота – вот храм, который всегда с евреем. Где бы он ни был, но суббота приходит всегда и вместе с ней возможность вспомнить о Боге, сотворившем мир за шесть дней…
Вот и белая, православная Русь оказалась на положении безземельного странника в Советском Союзе. Ее земные храмы взрывались и закрывались. Но независимо от решений правящей атеистической партии каждый год приходила весна. И вне всяких пятилетних планов наступало весеннее полнолуние. И была среда. И был четверг. И была пятница… И приходило Воскресенье.
Официальные календари не замечали Пасхи. Но и в той Москве были же люди, которые хранили бумажные иконки и венчальные свечи. В их вере и в их памяти незримый Храм оставался – Храм, построенный во времени, Храм литургического церковного календаря. И даже их тайной, домашней пасхальной молитвы оказалось достаточно для воссоздания Храма Христа Спасителя.
ПОЧЕМУ ВОЛАНД – ИНОСТРАНЕЦ?
В черновиках читается занятное продолжение истории с буфетчиком, которого насмерть перепугали сатанисты.. Столкнувшись с нечистой силой, он сразу же бежит в церковь.
«… В тенистой зелени выглянули белые чистенькие бока храма. Буфетчик ввалился в двери, перекрестился жадно, носом потянул воздух и убедился, что в храме пахнет не ладаном, а нафталином. Ринувшись к трем свечечкам, разглядел физиономию отца Ивана.
— Отец Иван, — задыхаясь, буркнул буфетчик, — в срочном порядке… об избавлении от нечистой силы…
Отец Иван, как будто ждал этого приглашения, тылом руки поправил волосы, всунул в рот папиросу, взобрался на амвон, глянул заискивающе на буфетчика, осатаневшего от папиросы, стукнул подсвечником по аналою…
«Благословен Бог наш…» — подсказал мысленно буфетчик начало молебных пений.
— Шуба императора Александра Третьего, — нараспев начал отец Иван, — не надеванная, основная цена сто рублей!
— С пятаком — раз, с пятаком — два, с пятаком — три!.. — отозвался сладкий хор кастратов с клироса из тьмы.
— Ты что ж это, оглашенный поп, во храме делаешь? — суконным языком спросил буфетчик.
— Как что? — удивился отец Иван.
— Я тебя прошу молебен, а ты…
— Молебен. Кхе… На тебе… — ответил отец Иван. — Хватился! Да ты откуда влетел? Аль ослеп? Храм закрыт, аукционная камера здесь!
И тут увидел буфетчик, что ни одного лика святого не было в храме. Вместо них, куда ни кинь взор, висели картины самого светского содержания.
— И ты, злодей…
— Злодей, злодей, — с неудовольствием передразнил отец Иван, — тебе очень хорошо при подкожных долларах, а мне с голоду прикажешь подыхать? Вообще, не мучь, член профсоюза, и иди с богом из камеры…
Буфетчик оказался снаружи, голову задрал. На куполе креста не было. Вместо креста сидел человек, курил»[170].
Итак, вместо храма – комиссионный магазин, вместо ладана – папиросы, вместо батюшки – отреченец[171]. «Ни одного лика святого» нет (хотя Ивана Бездомного радует и защищает даже полустертая икона неизвестного святого[172]). Но все же тема поруганного храма звучит здесь открыто.
Однако, в итоговом варианте романа никаких храмов и священников нет. Более того – в романе подчеркнуто отсутствует главный храм России – Храм Христа Спасителя.
Не заметить этот Храм, путешествуя по булгаковской Москве, трудно. Вот начало булгаковского очерка «Москва краснокаменная»[173]: «Жужжит «Аннушка», звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к храму Христа. Хорошо у Храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительных бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья».
Вот «Роковые яйца»: «Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны… На Пречистенском бульваре раздалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце».
Но вот Воланд с крыши Дома Пашкова[174] обозревает Москву, взирая «на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на снос лачуг»… Читатель-не-москвич проходит мимо этой строчки, не замечая ее странности. Чтобы вполне оценить эту булгаковскую подсказку, надо знать географию и историю Москвы. Вспомните парадный, телевизионный вид на Кремль с Большого Каменного Моста. Кремль остается от этого моста по правую руку. Впереди несколько вполне добротных каменных домов, за которыми стоит Манеж. А вот слева от моста на Боровицком холме и стоит Дом Пашкова, «дом с круглой башней». Если теперь смотреть с этого дома, то перед лицом будет Кремль, впереди слева – Манеж, справа впереди – мост. За спиной – Музей изобразительных искусств имени Пушкина. За Музеем – усадьба Голицыных (будущее место работы Ивана Бездомного). Сзади и чуть левее дома Пашкова – усадьба Гагариных. Между Гагариными и Голицыными – усадьба Лопухиных. Наконец, сзади и правее дома Пашкова – Храм Христа Спасителя… Впрочем, всех этих подробностей можно и не знать. Достаточно понять, что речь идет о городском квартале, вплотную примыкающем к правительственной резиденции и стоящем на берегу городской реки. Во всех городах мира это – самый дорогой район. А, значит, в этом районе понятно «необъятное сборище дворцов, гигантских домов». Непонятно – откуда вдруг тут могли взяться «обреченные на снос лачуги».
И все же они тут были, правда в одном лишь месте и в одно лишь время. С 1933 по 1937 годы. «Тут» значит на месте Храма. Время же лачуг – это время между сносом Храма и началом строительства сталинского «Дворца советов». Храм взорвали в декабре 1931 года. Добивали его еще полтора года. Строительство дворца начали в 1937 году. А вот в промежутке между этимя двумя акциями на месте Храма и появилась «деревня Нахаловка» – самострой, домики, построенные безо всяких разрешений… Ее-то и видит Воланд.
Эта деталь позволяет понять время действия романа: четыре весенних дня с 1933 по 1937[175]. Как ни странно, Булгаков предчувствовал его задолго. Еще в 1925 году в очерке «Киев-город» упоминается 1932 год как год вызволения сатаны: «- Прочти, – сказала она, – и ты увидишь, что антихрист придет в 1932 году. Царство его уже наступило. Книгу я прочел, и терпение мое лопнуло. Тряхнув кой-каким багажом, я доказал старушке, что, во-первых, антихрист в 1932 году не придет, а во-вторых, что книгу писал несомненный и грязно невежественный шарлатан. После этого старушка отправилась к лектору курсов, изложила всю историю и слезно просила наставить меня на путь истины. Лектор прочитал лекцию, посвященную уже специально мне, из которой вывел, как дважды два четыре, что я не кто иной как один из служителей и предтеч антихриста, осрамив меня перед всеми моими киевскими знакомыми. После этого я дал себе клятву в богословские дела не вмешиваться, какие б они ни были – старые, живые или же автокефальные».
Как видим, Булгаков своей клятвы не сдержал. Разгул зла заставил его вмешаться в богословские дела. Та навязанная ему брошюрка, наверно, и в самом деле была «грязно невежественна» (сын профессора Духовной Академии не мог этого не оценить). Но что-то в памяти все же осталось – дата манифестации зла. И хотя антихрист в том году не пришел в жизнь планеты, он прошелся по страницам булгаковского романа…[176] Кстати, поначалу, до взрыва Храма Христа Спасителя, Булгаков действие романа помещал в будущем – в 1943 году…[177] Со взрывом Храма кошмарное будущее вдвинулось в настоящее.
Весь мистический[178] сюжет «Мастера и Маргариты» может быть понят из этого фрагмента. И этот сюжет может быть резюмирован поговоркой: «свято место пусто не бывает». Смысл ее такой: на месте поруганной святыни поселяются бесы. Место разрушенных иконостасов заняли «иконы» политбюро. Город, в котором взрывают храмы, становится приютом «духа зла и повелителя теней». По слову выдающегося русского знатока античности проф. Ф. Ф. Зелинского, «там, где нет богов, там реют привидения»[179]. В мир, отрекшийся от Спасителя, приходит тот, кто Его кощунственно пародирует.
Воланд не случайно оказывается на крыше именно дома Пашкова. Это здание Государственной библиотеки. «Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века, так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист», – объясняет Воланд официальный мотив своего приезда в Москву.
Как видим, в Москве изначально как бы два полюса духовной энергии. Светлый полюс – Храм Христа Спасителя. А напротив него – черный полюс: подвалы библиотеки, набитые каббалистическим чернокнижием[180]. Храм взорвали. Мир стал «однополюсным». Сатана, прежде правивший лишь балами, теперь желает править миром.
Борис Гребенщиков когда-то спросил – «Ты чувствуешь сквозняк оттого, что это место свободно?». Москва взорвала Храм Христа. Сквозняк, образовавшийся в возникшей от этого пустоте, и затянул в Москву «знатного иностранца». Да, тот кто был «иностранцем» для «святой Руси», теперь является как полновластный хозяин. Мысль для Булгакова не новая. Еще «Похождения Чичикова» он начинал так: «в царстве теней шутник сатана открыл двери… И двинулась вся ватага на Советскую Русь».
Пока же Храм еще стоял (а Булгаков уже работал над своим романом), связь между торжеством безбожия и вторжением Воланда выражалась иначе. В первой редакции романа (1929 год) сеанс черной магии датируется 12-м июня. Но именно 12 июня 1929 года открылся Всесоюзный съезд безбожников с докладами Емельяна Ярославского (Губельмана) и Николая Бухарина[181].
ОБ ОБЕЗЬЯНЕ БОГА
В первой беловой редакции романа (1936-1937 гг.) Иван Бездомный после встречи с Воландом и смерти Берлиоза – «вышел на Остоженку и пошел к тому месту, где некогда стоял Храм Христа Спасителя»[182].
На какую именно роль претендует Воланд в Москве без Храма, видно из концовки той сцены, где он озирает Москву: «Распоряжений больше не будет – вы исполнили все, что могли, и более в ваших услугах я не нуждаюсь. Можете отдыхать. Сейчас придет гроза, последняя гроза, она довершит все, что нужно довершить, и мы тронемся в путь… Гроза, о которой говорил Воланд, уже скоплялась на горизонте. Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком. Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли дворцы, мосты. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. Он повторился, и началась гроза. Воланд перестал быть видим в ее мгле».
Гроза над Москвой в конце романа не может не перекликаться с грозой над Ершалаимом в его начале. Москва не третий Рим, а второй Ершалаим. Есть еще и третий Ершалаим – как бы небесный.
«Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами над пышно разросшимся за много тысяч этих лун садом… Тут Воланд махнул рукой в сторону Ершалаима, и он погас».
Этот «небесный Ершалаим» очень похож на Небесный Иерусалим Апокалипсиса. Но есть два отличия.
Первое: в Небесном Иерусалиме все настолько полно Богом, что нет даже и Храма[183], в то время как над «небесным Ершалаимом» царствуют идолы.
Второе: Небесный Иерусалим подвластен Богу. Небесный Ершалаим подвластен жестам Воланда. Во второй полной рукописной редакции романа (1938 год) это было еще очевиднее: «С последними словами Воланда Ершалаим ушел в бездну, а вслед за ним в ту же черную бездну кинулся Воланд, а за ними его свита». В следующем абзаце эта бездна называется – «опасная вечная бездна»[184].
В ту же бездну уходит Пилат («Этот герой ушел в бездну»). Причем идет он или навстречу Иешуа, или вместе с ним. Так что Иешуа тоже оказывается «внизу».
Как у Мастера есть власть над Пилатом, так у Воланда оказывается власть над Ершалаимом: «Святой Град» светится и уходит во тьму по желанию Воланда. Значит – это его, Воланда создание, а не Божий Град, описанный в Библии.
А так – Ершалаим очень похож на Иерусалим. Как антихрист в глазах невнимательных зрителей, читателей и почитателей неотличимо похож на Христа.
Издавна сатану называют «обезьяной Бога». Как обезьяна подражает действиям человека, не понимая их смысла, так и демон пробует копировать некоторые действия Творца. Таковы притязания Воланда: быть Богом…
«Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?» – вот вопрос, который ставит Воланд в начале своего московского визита и на который он пробует ответить всеми своими действиями: мол, я и распоряжаюсь. Ну, если и не распоряжаюсь, то по крайней мере я все предвижу… Ни свободы человека, ни тем более свободы Бога Воланд не признает (единственный призыв к выбору в романе звучит из уст Коровьева: «В сердце он попадает, – Коровьев вытянул свой длинный палец по направлению Азазелло, – по выбору, в любое предсердие сердца или в любой из желудочков»).
«Так кто ж ты, наконец? – Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Заметим, что эпиграф относится не к Мастеру и не к Маргарите. Эпиграф вновь обращает внимание на то, кто является главным действующим лицом романа. Роман – о дьяволе[185]. Эпиграф из гетевского «Фауста» как нельзя лучше характеризует его тактику и его цель: через малые обманы – к величайшему, к презентации себя как Бога.
Самая сильнодействующая ложь – ложь, замешанная на правде. В автохарактеристике Мефистофеля правды много. Верно и то, что он – «часть той силы, что вечно хочет зла»[186]. Верно и то, что из этого зла выходит благое. Неверно то, что этот итог Мефистофель приписывает своим замыслам. На деле же из зла, творимого сатаной, добро пересотворяет Господь. Только Богу под силу такая «алхимия», только Его Промысл может ошибку и грех человека обратить ко благу (если и не самого грешника, то хотя бы иных людей; если и не в земной жизни, то в грядущей[187]).
Вот и Воланд пробует в Москве, забывшей Христа, выдать себя за Вседержителя.
Москва придумала модное атеистическое развлечение – «Суд над Богом»[188]. И даже в романе Мастера Левий судит Бога – причем вполне в стилистике и с лексикой Бухарина[189]. Теперь Воланд судит Москву.
Воланд приходит в Москву, чтобы задать ей вопрос – «Ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?». И навязывает свой ответ: «я и управляю вами».
Он приписывает себе Божественные прерогативы: наказание грешников, награды праведникам…
Он представляет себя справедливым, просто этаким лицом закона. Воланд уверяет: «Все будет правильно, на этом построен мир». Но действия Воланда в Москве никакой такой правильности не являют. И хотя во всех учебниках пишется, будто «Воланд оказывается носителем высшей справедливости»[190], но на деле преступления москвичей и наказания, налагаемые на них самозваным судией, все же оказываются несоразмерны.
Не только Воланд и его свита, но и Мастер и Маргарита с восторгом смотрят на горящую Москву и на отчаявшихся людей. «Первый пожар подплыл поэту под ноги на Волхонке. Там пылал трехэтажный дом. Люди, находившиеся в состоянии отчаяния, бегали по мостовой…»[191]. «Город горит, – сказал поэт Азазелло, пожимая плечами. Как же это так? – А что ж такое! – отозвался Азазелло, как бы речь шла о каких-то пустяках, – почему бы ему и не гореть! Разве он несгораемый? Совершенно верно! – мысленно сказал поэт, – как это просто, в сущности»[192]. «Я подозреваю, что это они подожгли Москву» – говорит Маргарита Мастеру[193]. В ранних вариантах романа Москва, подоженная свитой сатаны, просто сгорает – как Рим времен Нерона. «Мощное зрелише, – заговорил Воланд, – то здесь, то там повалит клубами, а потом присоединяются и живые трепещущие языки… До некоторой степени это напоминает мне пожар Рима»[194].
И как несправедливы бывают наказания Воланда, так же немотивированны и его амнистии.
Главный Иуда московского сюжета – Алоизий Могарыч – нимало не изменившись, преуспевает и после встречи с Воландом, став директором театра варьете.
А что такого «в эту ночь» совершил Коровьев, чтобы обрести преображение?[195]
Хорошо ли, что Фрида получает возможность забыть свой страшный грех (убийство ребенка)? Разве она действительно изменилась? Где следы ее раскаяния? Она ненавидит свою тюрьму, а не свое преступление.
Вспомним, как Коровьев представляет ее – «А вот это – скучная женщина, обожает балы, все мечтает пожаловаться на свой платок». Глаза у Фриды «беспокойные, назойливые, мрачные». Еще один ее портрет – «одно совершенно пьяное женское лицо с бессмысленными, но и в бессмысленности умоляющими глазами»[196]. «- Я счастлива, королева-хозяйка, быть приглашенной на великий бал полнолуния. – А я, – ответила ей Маргарита, – рада вас видеть. Очень рада. Любите ли вы шампанское? – Я люблю. – Так вы напейтесь сегодня пьяной, Фрида, и ни о чем не думайте».
До чего же пошлый разговор. И мерзкий совет той, которая носит имя Маргариты (гетевская Маргарита сама утопила своего ребенка, но зато и сама же осудила себя на казнь, отказалась бежать из тюрьмы, в покаянии приняла кончину и была взята на Небеса). Плюнуть на свой грех и забыть, а совесть затопить в шампанском – вот уровень нравственного мышления той ведьмы, в которой некоторые литературоведы видят чуть ли не воплощение «русской души»… Хуже совета Маргариты только песенка из мультфильма про Чебурашку (сказка дивная и мультяшка хорошая. Но вот песенка…): «Если мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист!». И хорошо ли вообще, что слишком многие герои романа (и Пилат, и Мастер, и Иван) стараются избавиться от мук совести?..
Воланд их в этом поддерживает. И свой произвол, сочетающий немотивированную снисходительность со столь же безосновательной жестокостью, он считает законом.
Воланд – архитектор своей «Матрицы», мироправитель и даже миро-творец[197].
Воланд – и автор «Евангелия».
Воланд являет себя и в качестве повелителя Небесного Ершалаима. Он повелевает и Понтием Пилатом, и Иешуа (из чего явствует, что он придумал и того и другого для своего «Евангелия»)… С Мастером он говорит так, как Бог беседовал с ним самим в книге Иова[198]. Восстановление рукописи заставляет Маргариту воскликнуть нечто, что допустимо говорить только о Боге: «Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез: – Вот она, рукопись! Вот она! Она кинулась к Воланду и восхищенно добавила: – Всесилен, всесилен!».
И все же Воланд – всего лишь «имитатор». И – вор.
Для Бога в мире Воланда нет места. Воланд не отрицает Его существования (дьявол уж точно не атеист); он иначе блокирует возможность проявления своего Оппонента в мире людей: «- Мы вас испытывали, – продолжал Воланд, – никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас». «Никого» – значит, и Бога. Ну, а поскольку любой человек считает Бога сильнее себя, то воландовский запрет на просьбу оказывается еще более конкретным. Красота этой сатанинской формулы блокирует саму возможность молитвы.
Эта формула не-моления в воландовском «евангелии» подтверждается и от обратного: через демонстрацию бесполезного унижения просящего Иешуа: «А ты бы меня отпустил, игемон, – неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен».
Для просьбы места нет. Остается лишь голая воля к власти. Точнее, воля-то (воля – в смысле хотелка) у человека остается своя, а вот во власти он оказывается уже чужой. Зато Воланду уже безопасно общаться с человеком, отрезанным от Творца. И у человека нет шанса не быть обманутым в этом контакте.Да, а что же Булгаков думает о Воланде?
Вот первая авторская презентация главного героя романа: «Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом – иностранец». Разноцветные зрачки – деталь немаловажная именно для Булгакова. О том, что Михаил Афанасьевич был врачом, знают все. Но мало кто вспомнит, что узкая его научная специализация определяется как «сифилитолог». Разноцветные зрачки и есть симптом далеко зашедшего сифилиса (Воланд этого и не скрывает: «- Приближенные утверждают, что это ревматизм, – говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты, – но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в тысяча пятьсот семьдесят первом году в Брокенских горах, на чертовой кафедре»).
Хромота – традиционный фольклорный признак лукавого[199]. Новая, чисто булгаковская нотка в этом мотиве – это максимальная заниженность гипотезы о происхождении этой хромоты.
А вот последнее булгаковское описание действия Воланда: «Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита»[200].
Так что при внимательном чтении булгаковского текста вряд ли можно сделать вывод, будто «Воланд – самый обаятельный персонаж романа»[201]. А о том, что на поверхностный взгляд зло может казаться обаятельным – так об этом знает любой аскет и моралист. Если бы Воланд внушал лишь отвращение – непонятен был бы триумф зла в том мире, в котором жил Булгаков (да и мы тоже).
КНИГА ИОВА-»ФАУСТ»-»МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Булгаков своим эпиграфом требует рассматривать свой роман в перспективе гетевского «Фауста». А «Фауст» своим прологом, откровенно цитирующим книгу Иова, требует рассматривать себя в перспективе этой библейской книги. Значит, с книги Иова начнем и мы.
Начинается книга Иова «прологом на небесах». Радость сатаны о том, что на земле все люди уже забыли Бога, осаживается репликой Творца: «а как же раб мой Иов?». Сатана не спорит по факту: да, Иов благочестив, он почитает Тебя. Но «разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него?».
Вот самый страшный вопрос для любой религии, для религии как таковой: даром ли богобоязнен Иов? Может ли человек любить Бога ради Бога, а не ради взяток (в виде лучшей жизни здесь или блаженства там). Может ли человек видеть в Боге – Бога, а не генератор гуманитарной помощи? Если «любовь не ищет своего» (1 Кор. 13,5), не использует, то может ли человек любить то, что не видит глазами, что ему не подконтрольно и непослушно?
В «темном средневековье» была одна юродивая, которая ходила по городу с зажженым факелом и с ведром воды. Когда ее спрашивали, зачем ей факел днем, она отвечала: «этим факелом я хотела бы поджечь рай, а водой я хотела бы залить адский огонь. Я хочу, чтобы вы любили Бога ради Бога, а не ради надежды на райские радости или ради страха перед адской мукой». Но сатана не умеет любить. В его понимании религиозные отношения носят типично рыночный характер: «ты – мне, я – тебе».
Вот сатана и требует эксперимента: «простри руку Твою и коснись всего, что у него, – благословит ли он Тебя?».
«И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей» (Иов. 1,12). «Боевики» из соседних племен и ураганы убивают всех детей Иова и уничтожают все его имущество. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!».
Сатана требует продолжения эксперимента: дай мне самого Иова! простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, – благословит ли он Тебя? «И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги».
Прикосновение библейского воланда к Иову оборачивается проказой. Иов заживо гниет. Из-за вони он не может жить даже в своем доме. Религиозные же представления Древнего Востока считают проказу проклятьем богов, и потому Иова выгоняют и из его города. Жена приходит к Иову и говорит: «Похули Бога и умри!»[202].
С этой минуты сатана больше уже не появляется на страницах книги Иова: его работу искусителя взяли на себя люди (сначала жена Иова, потом его друзья)[203]. И оттого книга Иова оставляет ощущение какой-то недоговоренности. Дважды сатана приближается к Иову. И ждешь третьего раза – а его нет. Причем даже вполне понятно, каким должно быть это третье искушение. В первый раз сатана прикоснулся к социальному телу Иова (имуществу), потом к его физическому телу. Осталось прикоснуться к его душе… Но именно это Бог сатане запретил.
Эту литературную незавершенность «книги Иова» почувствовал Гете. Его Мефистофель начинает там, где остановился библейский сатана. Ему Бог дает гораздо больше, чем в библейском сюжете: «Тебе позволено. Ступай и завладей его душою. И если можешь, поведи путем разврата за собою»[204].
Только если помнить это зачин «Фауста» и его связь с книгой Иова, будет понятен финал. В конце поэмы Фауст, ставший уже преизряднейшим мерзавцем, умирает. Мефистофель приходит получить свою законную добычу – его душу. И тут происходит совсем неожиданное: являются ангелы и отбирают у Мефистофеля душу Фауста. Однако, это неожиданность лишь для тех, кто забыл начало поэмы. Бог изначально считает Фауста Своим слугой. Но по просьбе Мефистофеля Бог снял Свою благодатную защиту с души Фауста. Человек остался один на один с тем, кого Достоевский называл «дух сверхчеловечески умный и злобный». При таких условиях человек всегда проиграет. Поэтому Бог и не винит Фауста. Библейская формула «Бог дал – Бог взял» в «Фаусте» обретает свой смысл: Бог дал Фауста Мефистофелю, Бог же и забрал Фауста из лап сатаны.
«Спасен высокий дух от зла Произволеньем Божьим: «Чья жизнь в стремлениях прошла, того спасти мы можем». А за кого Любви самой ходатайство не стынет, тот будет ангелов семьей радушно в Небе принят».
И вновь возвращаемся к этой триаде: книга Иова – «Фауст» – «Мастер и Маргарита». В первой книге душа Иова под защитой Бога. Во второй Бог снимает защиту с души искушаемого человека. В третьей люди сами сдернули небесный покров со своих душ. Город, в котором из каждого окна выглядывает по атеисту, стал игрушкой в руках сатаны.
Булгаков подчеркивает, что еще до приезда Воланда дух атеизма и кощунства пропитал Москву[205].
Москва живет под фокстрот «Аллилуйа». Он звучит[206] в ресторане, где собирается писательский бомонд, под его музыку бесовская сила является в кабинете профессора — специалиста по раковым болезням, его наяривает оркестр на балу у сатаны[207]. Этот фокстрот написан американцем Винсентом Юмансом как кощунственная пародия на богослужение[208]. Кощунство – это перемена верха и низа местами[209].
Может, москвичи не знали о кощунственности этого фокстрота? Знали. Московские писатели сами избирали себе богоборческие и кощунственные псевдонимы. Под этот фокстрот отплясывает, например, «писатель Иоганн из Кронштадта». Наверно, это казалось остроумно – леваку-богоборцу взять псевдоним с намеком на самого «черносотенного» православного подвижника – отца Иоанна Кронштадтского. Вместе с ним пляшет и писатель с псевдонимом «Богохульский» (Булгаков же эту пляску называет коротко: «словом, ад»)…[210]
Если бы все сатирические сцены из жизни «интеллигентской» Москвы написал бы кто другой, а не Булгаков – они были бы просто смешны. Но в устах Булгакова они звучат как крик отчаянной боли и как приговор. Ведь Булгаков знал и воспел совсем другую интеллигенцию – «белую гвардию». Его «Дни Турбиных», «Бег», «Белая гвардия» – это «упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии. Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией» (Письмо М. Булгакова «Правительству СССР» от 28 марта 1930 года).
А теперь шариковы, воспитанные на журнале «Безбожник», рядятся под интеллигенцию. И вот в такой Москве перед очарованием и властью сатаны устоять не может никто[211].
… Когда-то иерусалимская толпа, занятая подготовкой к пасхе, не заметила Распятия Христова[212]. В Москве другая толпа не заметила даже Пасхи, будучи занята поиском увеселений в варьете…
ОБРАДУЕТ ЛИ ВЕЧНОСТЬ С МАРГАРИТОЙ?
Маргаритой принято восхищаться, видеть в ней возвышенный образ любящей, верной, милосердной женщины. С ней Мастеру предстоит провести вечность. Будем ему завидовать? Желать и себе столь доброго исхода?
Что ж, посмотрим на ее милосердие.
Да, Воланду заступничество Маргариты за Фриду поначалу кажется милосердием. Но Маргарита успокаивает духа зла: «Воланд, обратившись к Маргарите, спросил: – Вы, судя по всему, человек исключительной доброты? Высокоморальный человек? – Нет, – с силой ответила Маргарита, – я знаю, что с вами можно разговаривать только откровенно, и откровенно вам скажу: я легкомысленный человек. Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность подать ей твердую надежду. Она ждет, мессир, она верит в мою мощь. И если она останется обманутой, я попаду в ужасное положение. Я не буду иметь покоя всю жизнь. Ничего не поделаешь! Так уж вышло. – А, – сказал Воланд, – это понятно».
Как видим, свой внутренний комфорт Маргарита ценит выше встречи с Мастером. Воланд предупрелил, что исполнит лишь одну ее просьбу. Маргарита имеет все основания подозревать, что Мастер в тюрьме. Но просит она не за него. За себя. За свой покой. Так что Маргарита успешно прошла испытание Воланда. Вот если бы она бросилась сразу просить за Мастера, жертвуя собой – вот тогда она явила бы чуждость своего духа духу Воланда. А так – они оказались одного поля ягодами. Ради себя они могут помогать людям, но ради себя же могут и перешагивать через них. Такая Маргарита Воланду понятна. Ее можно забрать с собой из Москвы.
Еще Маргарита заступается за Понтия Пилата. Но как-то очень несимпатично описывается это ее «заступничество»: «- Отпустите его, – вдруг пронзительно крикнула Маргарита так, как когда-то кричала, когда была ведьмой, и от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского смеха». Вариант: «О, как мне жаль его, о, как это жестоко! – заломив руки, простонала Маргарита»[213]. Слишком много в этом нарочитости, позы и штампа…
Другая исповедь Маргариты: «- Я тебе сказку расскажу, – заговорила Маргарита и положила разгоряченную руку на стриженную голову, – была на свете одна тетя. И у нее не было детей, и счастья вообще тоже не было. И вот она сперва много плакала, а потом стала злая» (гл.21).
Вот описание мертвой Маргариты: «ведьмино косоглазие и жестокость и буйность черт». Вот Маргарита ожившая: «Голая Маргарита скалила зубы»[214]. Так что не стоит удивляться, видя, что животные – даже мистические – боятся Маргариту. «Коровьев галантно подлетел к Маргарите, подхватил ее и водрузил на широкую спину лошади. Та шарахнулась, но Маргарита вцепилась в гриву и, оскалив зубы, засмеялась», – говорилось в ранних рукописях[215].
Булгаков гениально владеет русским языком. И если он для описания героини подобрал именно такие слова – значит не стоит романтизировать Маргариту, отдирать от нее те черты, которые ей придал Булгаков, а насильственно отреставрированный лик ведьмы возносить на одну ступень со светлыми Мадоннами русской классики… Вы можете себе представить, чтобы у Льва Толстого Наташа Ростова улыбнулась Пьеру, «оскалив зубы»?[216]
В редакции 1936-37 гг. Маргарита утешается своей тотальной ненавистью: «О нет, – прошептала Маргарита, – я не мерзавка, я лишь бессильна. Поэтому буду ненавидеть исподтишка весь мир, обману всех, но кончу жизнь в наслаждении… Уже на Арбате Маргарита сообразила, что этот город, в котором она вынесла такие страдания в последние полтора года, по сути дела, в ее власти теперь, что она может отомстить ему, как сумеет. Вернее, не город приводил ее в состояние веселого бешенства, а люди. Они лезли отовсюду из всех щелей. Они высыпались из дверей поздних магазинов, витрины которых были украшены деревянными разрисованными окороками и колбасами, они хлопали дверьми, входя в кинематографы, толкались на мостовой, торчали во всех раскрытых окнах, они зажигали примусы в кухнях, играли на разбитых фортепиано, дрались на перекрестках, давили друг друга в трамваях… «У, саранча! – прошипела Маргарита»[217].
Во всех вариантах романа Маргарита мстит совершенно незнакомым ей людям…
Так кто же она? Во второй полной рукописной редакции романа (1938 год) поясняется, что Маргарита – это реинкарнация хозяйки Варфоломеевской ночи, французской королевы Марго. На балу Воланд представляет Маргарите демона-убийцу Абадонну, реакция которого вносит полную ясность в этот вопрос: «Я знаком с королевой, правда, при весьма прискорбных обстоятельствах. Я был в Париже в кровавую ночь 1572-го года»[218]. Там же Коровьев говорит Маргарите: «Вы сами королевской крови… тут вопрос переселения душ… В шестнадцатом веке Вы были королевой французской… Воспользуюсь случаем принести Вам сожаления о том, что знаменитая свадьба ваша ознаменовалась столь великим кровопролитием…»[219].
Так что о доброте и милосердии «черной королевы» Маргариты (так к ней обращаются на балу) говорить стоит поосторожнее.
А верна ли Маргарита своей любви?
Маргарита Мастера в отличие от Маргариты Фауста – далеко не девственница. С Мастером она изменяла живому мужу, от которого ничего не видела, кроме добра. Едва только Мастер исчез из ее жизни, она уж готова завести роман с другими мужчинами: «Почему, собственно, я прогнала этого мужчину? Мне скучно, а в этом ловеласе нет ничего дурного, разве только что глупое слово «определенно»? Почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я выключена из жизни?» (гл. 19).
«Дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать…». А чем же она тогда будет любить Мастера, если душу она продает сатане? Если не душой, то тем, что она в обнаженном виде демонстрировала всей нечестной публике на балу у сатаны? Значит, лишь плоть Маргарита оставляет для Мастера?
Но – только ли для Мастера?
Вот какой-то мужчина попобовал познакомиться с Маргаритой, но встретил ее мрачный взгляд. Маргарита Николаевна тут же пожалела о несостоявшемся знакомстве: «Вот и пример, – мысленно говорила Маргарита тому, кто владел ею, – почему, собственно, я прогнала этого мужчину? Мне скучно, а в этом ловеласе нет ничего дурного, разве только что глупое слово «определенно»? Почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я выключена из жизни?» Она совсем запечалилась и понурилась».
В рукописи 36-37 гг. Маргарита не прочь заигрывать даже с Азазелло при первом же их знакомстве на Манежной площади: «Хорошо, пожалуйста, – уже без надменности ответила Маргарита Николаевна, растерялась, подумала о том, что садясь на скамейку, забыла подмазать губы»[220].
В черновиках Маргарита «Сверкает распутными глазами»[221]. Или: «Маргарита хохотала, целовалась, что-то обещала, пила еще шампанское и, опьянев, повалилась на диван и осмотрелась… Кто-то во фраке представился и поцеловал руку, вылетела рыженькая обольстительная девчонка лет семнадцати и повисла на шее у Маргариты и прижалась так, что у той захватило дух…[222] Гроздья винограду появились перед Маргаритой на столике, и она расхохоталась — ножкой вазы служил золотой фаллос. Хохоча, Маргарита тронула его, и он ожил в ее руке. Заливаясь хохотом и отплевываясь, Маргарита отдернула руку. Тут подсели с двух сторон. Один мохнатый с горящими глазами прильнул к левому уху и зашептал обольстительные непристойности, другой — фрачник — привалился к правому боку и стал нежно обнимать за талию. Девчонка уселась на корточки перед Маргаритой, начала целовать ее колени. — Ах, весело! Ах, весело! — кричала Маргарита, — и все забудешь. Молчите, болван! — говорила она тому, который шептал, и зажимала ему горячий рот, но в то же время сама подставляла ухо»[223].
Пожалуй, со времен Баркова такой порнографии в русской литературе не было…
Любовь делает человека слепым: кроме любимого человека все остальные становятся бесполыми «товарищами по работе» и «гражданами». Для Маргариты Мастер не становится Единственным. Так Мастера она любит или свою новую игрушку, которая расцветила ее жизнь?
И если Маргарита может с хохотом «отплевываться» от «ожившего фаллоса», то не не стоит удивляться ее кредо: «Не надо ни о чем думать, не надо ничего бояться и выражения тоже подбирать не надо»[224].
Маргарита стала ведьмой задолго до встречи с Воландом: «Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек, что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме» (гл. 19). Она вполне сознательно продает свою душу дьяволу: «Ах, право, дьяволу бы заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет!» (гл. 19). «- Ты сейчас невольно сказал правду, – заговорила она, – черт знает, что такое, и черт, поверь мне, все устроит! – глаза ее вдруг загорелись, она вскочила, затанцевала на месте и стала вскрикивать: – Как я счастлива, как я счастлива, как я счастлива, что вступила с ним в сделку! О, дьявол, дьявол! Придется вам, мой милый, жить с ведьмой» (гл. 30).
И еще до встречи с Воландом Маргарита потеряла свою душу. Она кокетничает, когда говорит, «заложила бы душу» – ибо, похоже, она вообще не верит в существование души. Оттого и мечтает о самоубийстве (самоубийцы слепо и наивно полагают, будто уничтожение тела тождественно уничтожению души и ее боли). «Так вот, она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я наконец ее нашел, и что если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста». Странно, но даже встреча с сатаной и его призраками не убеждает Маргариту в бессмертии души: и утром после бала она по прежнему думает о самоубийстве: «Только бы выбраться отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».
Поскольку же ведьмой (хоть в втайне от себя самой) Маргарита была еще до встречи с сатаной, то и «знакомство с Воландом не принесло ей никакого психического ущерба».
Маргарита – не Муза[225]. Она лишь слушает уже написанный роман. В жизни Мастера она появляется, когда роман уже почти закончен[226].
Хуже того. Именно Маргарита подталкивает его к самоубийственному поступку – отдать рукопись в советские издательства: «Она сулила славу, она подгоняла его и вот тут-то стала называть мастером». Это или сознательная провокация или потрясающее безмыслие. Или просто медиумичность: и Мастер и Маргарита открыты воздействию Воланда. Во всяком случае пассивность Мастера подчеркивается вполне ясно: «И, наконец, настал час, когда пришлось покинуть тайный приют и выйти в жизнь».
Нет, эта «черная королева» не сможет вдохновить Мастера на новые творения… Призрак Мастера завещал Ивану Бездомному продолжить роман «о нем». Но призрак Маргариты поцеловал юношу – и профессор Понырев так ничего и не написал (хотя Маргарита и уверяла его, что она знает его будущее и там все будет хорошо). Ничего не напишет и зацелованный Маргаритой призрак Мастера.
Характерно также, что Мастер и Маргарита обречены на бесплодие; и на земле они не смогли родить детей, тем более не будет детей у призраков. Они будут «лепить гомункула»[227]. Они будет резать друг друга своей «любовью» («Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!» (гл. 13)). Кажется, страсть к Маргарите, выскочившая «из под земли» – это второй (после выигрыша ста тысяч) спонсорский взнос Воланда в работу Мастера[228].
В булгаковском романе нетрудно заметить мотив расплаты за легковесные слова: «булгаковский дьявол обладает поразительным свойством материализовываться после любого чертыханья всех героев романа, любящих всуе поминать имя нечистого»[229]. («Берлиоз: «Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск…» И тут знойный воздух сгустился перед ним…»).
Но свой рассказ о Маргарите Мастер как раз и начинает с упоминания черта: «Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут…».
«Любовь выскочила…». «Так поражает финский нож»… «Убийца»…Неужели великий Булгаков, великий стилист не смог найти других слов для описания «вечной любви»? Но если он нашел именно такие слова – то, может, это и не любовь? Может, это взаимное использование любовниками друг друга?
Да, я слышу всегдашнее возражение: постойте, сам же Булгаков сказал, что он пишет роман о «настоящей, верной, вечной любви»… Сказать он и в самом деле так сказал. Но – как? С какой интонацией? Это всерьез или с иронией и издевкой? «Что дальше происходило диковинного в Москве в эту ночь, мы не знаем и доискиваться, конечно, не станем, тем более, что настает пора переходить нам ко второй части этого правдивого повествования. За мной, читатель! За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!» (гл. 19).
Скажите, где еще Булгаков высказывался от себя о серьезном и вечном с такой назойливо-восторженной интонацией первомайских призывов? Тут очевидная авторская самоирония – фантасмагорию назвать «правдивым повествованием». Тут очевидная фельетонность. Только в одном месте романа упоминается подобная восклицательно-призывная интонация – когда Ивану Бездомному «приспичило обличать Рюхина»: «Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, который он сочинил к первому числу! Хе-хе-хе… «Взвейтесь!» да «развейтесь!»«.
Таким же искусственным фальцетом отдает и от заверения Булгакова о вечной любви и верности Маргариты. Булгаков пошутил – а его шутку приняли всерьез…[230] Столь же мало веры и громкой декларации Маргариты, принимающей баночку с зельем из рук Азазелло – «Я погибаю из-за любви! – и, стукнув себя в грудь, Маргарита глянула на солнце».
Так что нет уверенности в том, что Маргарита не будет улетать на ежегодные балы Воланда в поисках менее скучных друзей.
Маргарита владеет Мастером. Мастеру же не обрести свободы от Маргариты.
Маргарита грозит Мастеру: «А прогнать меня ты уже не сумеешь».
То, что это именно угроза, понимает даже Воланд: «мастер, притянул к себе Маргариту, обнял ее за плечи и прибавил: – Она образумится, уйдет от меня… – Не думаю, – сквозь зубы сказал Воланд» (гл. 24). А во второй полной рукописной редакции реакция Воланда выглядела еще более однозначной: «Итак, человека за то, что он сочинил историю Понтия Пилата, вы отправляете в подвал в намерении его там убаюкать?»[231]
Вообще Мастер становится приложением к Маргарите: «Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, мастера, – сказала Маргарита, и лицо ее исказилось судорогой». Маргарита здесь все же просит о себе (как о своем же покое она просила, вступаясь за Фриду). Она имеет Мастера, пользуется им, как она пользовалась кремом Воланда. Не случайно в кошмарах Ивана Понырева она столь властно обращается с Мастером: «Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это – номер сто восемнадцатый, его ночной гость» (Эпилог).
Так что Маргарита – отнюдь не «ангел хранитель» и не «добрый гений» Мастера. Вечность с ней – подарочек еще тот!
В романе Мастера говорилось об одной женщине, которая предала любимого. Так Низа выдала Иуду. Не по этой ли линии в царстве Воланда пойдут пути Мастера и Маргариты? Иуду Низа уводит от пасхальной трапезы. Маргарита Мастера уводит из пасхальной Москвы. Безвольно идет Иуда («ноги сами без его воли вынесли его из подворотни вон»). Безвольно следует за Маргаритой Мастер. Иуду ведут в сад (Гефсиманский). И Мастера ведут туда же. Через поток переводит Низа Иуду. Через ручей Маргарита ведет Мастера к «вечному дому». Кстати, в Палестине «вечным домом» называли могилу…
Впрочем, Булгаков нередко столь ярко выписывал своих персонажей, что читатели принимали характерность за положительность. «Читал труппе Сатиры пьесу. Все единодушно вцепились и влюбились в Ивана Грозного. Очевидно, я что-то совсем не то сочинил»[232].
Предвидел Булгаков и то, что за «Мастера и Маргариту» его могут несправедливо и против его воли записать в оккультисты и сатанисты. «Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана. Я берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в «Мастере и Маргарите»! Ты понимаешь, чего стоит это сознание – я прав!»[233].
Речь идет о статья «Социальная фантастика Гофмана». Экземпляр журнала «Литературная учеба» (1938, № 5) с пометками Булгакова сохранился. Что подчеркнул Булгаков в этой статье? Где именно он узнал себя? – Подчеркнуты строки: в произведениях Гофмана «цитируются с научной серьезностью подлинные сочинения знаменитых магов и демонолатров, которых сам Гофман знал только понаслышке. В результате к имени Гофмана прикрепляются и получают широкое хождение прозвания, вроде спирит, теософ, экстатик, визионер, и наконец, просто сумасшедший. Сам Гофман, обладавший, как известно, необыкновенно трезвым и практическим умом, предвидел кривотолки своих будущих критиков»[234].
Вот и Булгаков с ясным и дневным сознанием ввел в свой роман ночных персонажей – а слишком многим читателям стало мерещиться, будто Булгаков и сам из числа «спиритов и визионеров»… Как верно сказал священник Андрей Дерягин – «Ситуация с восприятием романа аналогична завозу в Россию картошки при Петре I: продукт замечательный, но из-за того, что никто не знал, что с ним делать и какая его часть съедобна, люди травились и умирали целыми деревнями»[235].
«ОН ЗАСЛУЖИЛ ПОКОЙ»
О судьбе Мастера сказано красиво: «Он не заслужил света, он заслужил покой». И несколькими поколениями советских интеллигентов эти слова переживались как символ их скудных эсхатологических надежд. «Счастливый финал»[236]…
Почему все так рады за Мастера, что завидуют его «синице в руке», совсем и не задумываясь о его утрате – о «журавле в небе», о Свете? Ведь в русской литературной традиции свет и покой едины. Булгаков даже для эпиграфа письма ко Сталину избрал некрасовское стихотворение, в котором была строка – «Вдруг ангел света и покоя мне песню чудную запел»…[237] Неужели непонятно, что покой оторванный от света – это темный покой, могильный мрак?
Так в чем же грех Мастера? Почему он не заслужил света? В чьих глазах он «согрешил»? От кого он принимает свою полу-награду, полу-наказание?
Ясно, что его грех связан с его романом. Но что же было грехом – написание романа в синергии с Воландом или его сожжение?
Приговор Мастеру выносит Иешуа (второстепенный персонаж его романа о Пилате). Персонаж судит своего автора. Но автор не один: есть соавтор – Воланд. Иешуа – создание не только Мастера, но и Воланда. Поэтому Воланда он просит о покое для Мастера. Для Воланда эта просьба призрака, вызванного им же самим к жизни, досадна и нелепа. И без нее Воланд уже решил, что делать с Мастером, а заодно и с Маргаритой[238].
Тогда понятно, что грехом (с точки зрения Воланда и Иешуа, а отнюдь не моей) оказывается именно сожжение романа. Мы уже знаем, что призраки чахнут, если их оставлять без внимания… Мастер должен был впустить евангелие от Воланда в мир, но – испугался. Воланд пробовал подтолкнуть его к тиражированию рукописи, подослав к нему Маргариту. «Она сулила славу, она подгоняла его и вот тут-то стала называть мастером». Уже после провала Мастер «шепотом вскрикивал, что он ее, которая толкала его на борьбу, ничуть не винит, о нет, не винит!». (Так Иешуа не винит Понтия Пилата). Маргарита же именно после издательского провала рукописи стала отдаляться от Мастера: «теперь мы больше расставались, чем раньше. Она стала уходить гулять».
Неверно предположение М. Дунаева, будто Воланду роман Мастер нужен был для черной мессы – «бала». «Роман, созданный Мастером, становится не чем иным, как евангелием от сатаны, искусно введенным в композиционную структуру произведения об антилитургии. Вот для чего была спасена рукопись Мастера. Вот зачем искажен образ Спасителя. Мастер исполнил предназначенное ему Сатаной»[239].
Как раз на балу у Воланда роман Мастера никак не фигурирует, не зачитывается, не замечается, и никто из его персонажей там даже не появляется. Бал нечисти состоялся бы и без романа Мастера (он вообще ежегодно-весенний). А вот сожжение Мастером порученного ему труда в глазах Воланда есть дезертирство. Мастер испугался первого сопротивления твердолобых атеистов и отступил, не решился разбросать по свету осколки кривого зеркала, а тем самым ослабил общую стратегию антихристианского наступления[240].
А хорошо ли Мастеру быть в темном, бес-светном покое? Чего лишился мастер, отказавшись от света? От чего отгородил его «покой», подаренный Воландом?
Этими вопросами отчего-то не принято было задаваться.
Сначала – об утрате. О Свете. О Небе.
Осенью 1933 года Булгаков записывает: «Встреча поэта с Воландом. Маргарита и Фауст. Черная месса. – Ты не поднимешься до высот. Не будешь слушать мессы. Но будешь слушать романтические – … Маргарита и козел. Вишни. Река. Мечтание. Стихи. История с губной помадой»[241].
В рукописи 1936 года это оформлено уже так: «Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил… Исчезнет мысль о Ганоцри и о прощенном Игемоне. Это дело не твоего ума. Ты никогда не поднимешься выше, Ешуа не увидишь, ты не покинешь свой приют.. Он шел к дому, но уж не терзали сомнения и угасал казнимый на Лысом Черепе и бледнел и уходил навеки, навеки шестой прокуратор Понтийский Пилат. Конец».[242]
Мы же попробуем приглядеться к той вечности, по которой обречен бродить призрак Мастера (именно призрак; не будем забывать, что тело Мастера, отравленное Азазелло, не то сгорело в арбатском подвале, не то осталось в палате № 118).
Фауст по воле и милости Бога избежал вечного общения с Мефистофелем и его командой. А вот Мастеру далеко до такой участи. Он и по смерти остается в области Воланда. Мастер не переходит в мир Христа, в мир ангелов. И в вечности Мастер зависим от Воланда и его даров.
Дары же Воланда всегда по меньшей мере двусмысленны. Во всем романе он наиболее откровенно врет именно в этой сцене прощания с Мастером.
О Пилате Воланд говорит так: «Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать». Стоп! Ведь Иешуа через Левия Матвея просил за Мастера, а не за Пилата!
Второй звоночек: Воланд предлагает Мастеру создать гомункула: «Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда».
Снова ложь: Воланд подменяет Фауста Вагнером: гомункула создал Вагнер, «лаборант» Фауста, и, по оценке своего учителя – «беднейшее из всех земных исчадий». Фауст в это время был в летаргическом сне.
Вагнер – безнадежный книжник: «Меня леса и нивы не влекут, И зависти не будят птичьи крылья. Моя отрада – мысленный полет По книгам, со страницы на страницу. Зимой за чтеньем быстро ночь пройдет, Тепло по телу весело струится, А если попадется редкий том, От радости я на небе седьмом».
Но не таков Фауст: «Я на познанье ставлю крест. Чуть вспомню книги – злоба ест».
Фауста тошнит от «спального колпака и халата» Вагнера. Воланд же, называя Мастера Фаустом, подсовывает ему вагнеровский мирок: «Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак» (Маргарита о жизни в обещанном «домике»).
Фауста мутило от его размеренно-предсказуемой лабораторно-домашней жизни: «Я проклинаю мир явлений, Обманчивых, как слой румян. И обольщенье семьянина. Детей, хозяйство и жену». Фауст мечтал о деятельности, Мастер (пока был жив) – о беспамятстве и покое. Что ж – спокойней всего на кладбище.
Примечательно, что дух зла действует с ловкостью наперсточника. Фауст не желает вести размеренно-домоседскую жизнь, и Мефистофель тут же его подсовывает ему свой навязчивый сервис: «(Фауст) «Жить без размаху – никогда! (Мефистофель): вот, значит, в ведьме – и нужда».
Мастеру, напротив, по сердцу арбатский подвальчик, домашний уют. Но дар Воланда все тот же: ведьма.
Ведьма и королева Варфоломеевской ночи в приложении к домашнему обиходу: «ловите гранату! Не бойтесь, она ручная!». Дерзаний у мастера нет, творчества уже нет, пути нет. Зато ведьма теперь всегда с ним.
И лепка нового[243] гомункула вряд ли чем обогатит мир призраков: в «Фаусте» гомункул как раз жаждет обрести плоть, вырваться из своей стеклянной реторты. И как Мастер сможет дать плоть гомункулу, если он и сам ее лишен? Как он сможет освободить гомункула (Анаксагор в «Фаусте» говорит гомункулу – ты «жил, оградясь своею скорлупой»), если он сам стал «человеком в футляре»? Впрочем, одного гомункула Мастер уже создал: из Христа-Богочеловека он попробовал слепить человечка…
Ну, а если мы вспомним «Собачье сердце», то поймем, что для Булгакова идея гомункула была похоронена раз и навсегда[244].
Что еще Воланд уготовил Мастеру на вечность? – призрак Маргариты. Качество этого подарка вызывает определенные сомнения, изложенные в предыдущей главе.
Следующий дар – музыка Шуберта.
Из окончательного текста романа трудно понять, почему именно Шуберт станет неразлучным с Мастером. Но в ранних вариантах все яснее. Там звучит романс Шуберта «Приют» на стихи Рельштаба: «черные скалы, вот мой покой»: Варенуха «побежал к телефону. Он вызвал номер квартиры Берлиоза. Сперва ему почудился в трубке свист, пустой и далекий, разбойничий свист в поле. Затем ветер. И из трубки повеяло холодом. Затем дальний, необыкновенно густой и сильный бас запел, далеко и мрачно: «… черные скалы, вот мой покой… черные скалы…». Как будто шакал захохотал. И опять «черные скалы… вот мой покой…»[245]. Или: «Нежным голосом запел Фагот… черные скалы мой покой»[246]. Вот и отгадка – что значит «покой без света».
Романс Шуберта, исполняемый Воландом по телефону, отсылает нас не только к Мефистофелю, но и к оперному Демону Рубинштейна. Декорации пролога оперы «Демон» в знаменитой постановке с участием Шаляпина легко узнаваемы читателем булгаковского романа – нагромождения скал, с высоты которых Демон – Шаляпин произносит свой вступительный монолог «Проклятый мир».
Так что «божественные длинноты» Шуберта, воспевающего черные скалы, Воланд превратил в инструмент замаскированной пытки. Теперь протяженность этих длиннот будет неограничена…
Еще один воландов дар: «старый слуга».
Значит, кто-то и в вечности останется «слугой»? В христианстве такого представления нет. Мертвый слуга за гробом – это египетские «ушебти». В гроб египтян клались деревянные фигурки рабов. Предполагалось, что именно они будут выполнять черную работу в загробном мире, в то время как люди (т.е. собственно египтяне) будут радоваться плодам «полей Иалу». А это означает, что посмертие, организованное Воландом – это не-христианское посмертие. Вечность с буратинами. И мелькнувший там Иешуа не более похож на Иисуса, чем египетский фаллический знак (анх) – на Голгофский Крест.
Следующий подарок: домик.
О качестве этого дара можно судить и по тому, что он не впервые возник в творчестве Булгакова. Воланд современному расхристанному читателю кажется симпатягой. Но у Булгакова не раз возникала тема высокого начальства, которое помогает бедному интеллигенту решить квартирный вопрос и избавиться от шариковых и прочих «аннушек». «Ночью я зажег толстую венчальную свечу. Свеча плакала восковыми слезами. Я разложил лист бумаги и начал писать на нем нечто, начинавшееся словами: председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину. Все, все я написал на этом листе: и как я поступил на службу, и как ходил в жилотдел, и как видел звезды над храмом Христа, и как мне кричали: – Вылетайте как пробка… Ночью я заснул и увидал во сне Ленина. Я рассказывал про звезды на бульваре, про венчальную свечу и председателя… – Так… так… так.. – отвечал Ленин. Потом он позвонил: – Дать ему ордер на совместное жительство с его приятелем. Пусть сидит веки-вечные в комнате и пишет там стихи про звезды и тому подобную чепуху»[247].
Значит, дар, полученный Мастером, мог бы ему вручить и Ленин. Значит, Воланд вручает Мастеру «ленинскую премию». Темы сходства Воланда и Ленина касаться не будем[248]. Просто отметим, что от «потусторонней» силы Мастер получает вполне посюсторонний, «кесарев» дар. Невысока же для него оказалась планка мечтаний и цена соблазна…
Только советская образованщина, испорченная «квартирным вопросом» и мечтой о дачном домике в Переделкино могла увидеть в этом достойную замену Небесному Иерусалиму и христианскому раю.
Маргарита увещевает Мастера обзавестись «домиком с венецианскими окнами». Но именно в таком домике и жил Фауст, и именно на эти окна у него была аллергия: «Назло своей хандре Еще я в этой конуре, Где доступ свету загражден Цветною росписью окон!».
Фаусту, «чья жизнь в стремлениях прошла», Мефистофель однажды предложил следующий жизненный план: «Возьмись копать или мотыжить. Замкни работы в тесный круг. Найди в них удовлетворенье. Всю жизнь кормись плодами рук, Скотине следуя в смиренье. Вставай с коровами чуть свет, Потей и не стыдись навоза – Тебя на восемьдесят лет Омолодит метаморфоза».
Фауст гневно протестует: «Жить без размаху? Никогда! Не пристрастился б я к лопате, К покою, к узости понятий».
И вот мирок, из которого вырвался Фауст, Воланд предлагает Мастеру как высшую награду.
Воланд сам упомянул Фауста и обещал Мастеру то, что якобы привело бы в восторг самого Фауста. Но реально Мастеру он подсунул то, что у Фауста вызывало лишь приступы хандры.
Живой Мастер совсем не похож на Фауста. Но призрак Мастера, как кажется, пробует уже переживать по-фаустовски. Последнее, что сделал призрак Мастера, покидая свой земной дом – он бросил в огонь не только свою рукопись, но и еще какую-то чужую книгу: «Мастер опьяненный будущей скачкой, выбросил с полки какую-то книгу на стол, вспушил ее листы в горящей скатерти, и книга вспыхнула веселым огнем». В этом поступке в Мастере проснулось что–то от Фауста (жажда скачки, полета, новизны). Оттого Воланд и поминает Фауста. Но на деле-то он подсовывает Мастеру не фаустовский идеал, а вагнеровский. И этот статично-книжный вагнеровский рай точно не будет радовать Мастера. Воланд дарит Мастеру «счастье» с чужого плеча. Оно ему будет жать и натирать душу.
Дурно пахнущую авантюру Воланд предлагает Мастеру. Причем – «сквозь зубы»: «Маргарита тихонько плакала, утирая глаза большим рукавом. – Что с нами будет? – спросил поэт. – Мы погибнем! – Как-нибудь обойдется, – сквозь зубы сказал хозяин и приказал Маргарите: Подойдите ко мне… Вы станете не любовницей, а его женой, – строго и в полной тишине проговорил Воланд, – впрочем, не берусь загадывать. Во всяком случае, – он повернулся к поэту, – примите от меня этот подарок, – и тут он протянул поэту маленький черный револьвер. Поэт все так же мутно и угрюмо гляда исподлобья, взял револьвер»[249].
Как тут не вспомнить другое описание бес-светной вечности:
«- Я не верю в будущую жизнь, – сказал Раскольников. Свидригайлов сидел в задумчивости. – А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, – сказал он вдруг. «Это помешанный», – подумал Раскольников. – Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится. – И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! – с болезненным чувством вскрикнул Раскольников. – Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал! – ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь»…
Вечность без вдохновения ждет Мастера: «- Так, стало быть, в Арбатский подвал? А кто же будет писать? А мечтания, вдохновение? – У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет, – ответил мастер, – ничто меня вокруг не интересует, кроме нее, – он опять положил руку на голову Маргариты, – меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал» (гл. 24).
Мастеру еще предстоит узнать страшную правду о своей творческой импотенции: без воландовского вдохновения он уже не сможет написать ничего подобного своему сгоревшему роману… Воланд подарил этот роман Мастеру. Воланд же (через Азазелло) его и сжег. Дары Воланда всегда двусмысленны. Мастер ведь уже предчувствовал, с кем связался и чем все это кончится: «Стоило мне перед сном потушить лампу в маленькой комнате, как мне казалось, что через оконце, хотя оно и было закрыто, влезает какой-то спрут с очень длинными и холодными щупальцами» (гл. 13).
Вспомним еще револьвер, который в рукописи 36-37 годов Воланд дарит Мастеру, и картина станет вполне богословски-канонической.
По наблюдению святых Отцов, когда человек вступает в общение с Князем тьмы, в его душу начинает постепенно проникать отчаяние. Ты вроде стал хозяином жизни, пробудившиеся в тебе страсти должны толкать тебя к наслаждению жизнью… И вдруг – тоска, «спрут в душе». Это твой новый «духовный покровитель» вдруг сбрасывает маску и дышит тебе в лицо открытым холодом и жаждой уничтожения.
Зато в понятье вечной пустоты
Двусмысленности нет и темноты…
Конец? Нелепое словцо!
Чему конец? Что, собственно, случилось,
Раз нечто и ничто отождествилось.
(Мефистофель в «Фаусте» Гете).
Несколько примеров общения с этим духом небытия приводит св. Игнатий Брянчанинов в «Аскетических опытах». Вот один из них: Петербургский чиновник занимается молитвенным подвигом, некстати и без духовного руководства начитавшись преп. Симеона Нового Богослова – самого мистического и самого лиричного из Отцов. Приходит рассказать о своих видениях в монастырь и говорит, что видит сияние, исходящее от икон, ощущает благоухание и сладость необычайную во рту и т. д. Монах, выслушав его, задает ему один-единственный вопрос: «А не приходила ли Вам в голову мысль убить себя?». Оказывается — уже пытался бросаться в реку, да оттащили… И монах поясняет, почему он задал такой вопрос: как во время покаянного плача бывает минута тихого и светлого спокойствия, так и в минуты ложных наслаждений, бывает, прелесть выдает себя и сквозь первоначальный восторг проступает конечная цель духа зла – уничтожение человека[250].
Вот и Маргарита еще до встречи с Мастером впустила в себя мечту о небытии: «Так вот она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я наконец ее нашел, и что если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста». Радуется смерти и Мастер…
В финале тело Мастера уже убито. Душа… Но что такое «душа» со стертой памятью? О чем он будет писать? И для кого?
В избушке с засаленным колпаком и пустой ретортой Мастера ждет бесполезное «гусиное перо». Бесполезно оно оттого, что даже если бы он и смог что-либо написать, книги, написанными умершими духами, к людям не приходят. Мастер будет существовать без читателей. И тогда даже атеисты, травившие его за «пилатовщину», покажутся ему вожделенными читателями и ценителями… Кому да и о чем сможет написать Мастер, если люди ему уже неинтересны[251], а в общение с Богом и ангелами («свет») он не вошел, будучи изолированным в своем «покое»?
А вот от романа, написанного им на земле, Мастеру никуда не деться: «Я помню его наизусть… Я теперь ничего и никогда не забуду… Я возненавидел этот роман, и я боюсь. Я болен. Мне страшно».
Воланд позаботился о том, чтобы этот страх оставался в Мастере навсегда. Он поселил его в зацветающем вишневом саду. Вишня в цвету – это прекрасно, спору нет. Но ведь Мастер перешел в мир иной, и перешел навеки. И вот оказывается, что ничего нового, иного его не ждет. Вишни будут цвести всегда, а плодов не будут давать никогда… Творческая личность обрекается на бесконечное повторение пусть и прекрасных, но земных и уже бывших моментов[252]. Если какие-то тени и будут навещать его[253] – то под строгим условием: «не тревожить». Значит, все будет узнаваемо и стерильно. Новизна не возмутит мир Мастера… В общем, Воланд дарит Мастеру вечность не первой свежести.
Но прекрасно ли цветение вишен именно для Мастера? Бывает, что день, праздничный для всех, оказывается траурным для одной семьи. Если в этой семье несчастье произошло в новогоднюю ночь – то на годы вперед огни новогодних елок будут не радовать, а мучить. Так какие же ассоциации могут вызывать у Мастера цветущие вишни?
Вишня цветет в мае. Май и есть месяц очной встречи с Воландом, месяц сумасшествия и смерти Мастера. Значит, вся боль последних недель жизни Мастера будет ему напоминаема постоянно. Как «весеннее праздничное полнолуние» каждый год лишало покоя Ивана Бездомного, так и Мастеру придется маяться каждый май, точнее – вечный май с вечно зацветающими, но никогда не плодоносящими вишнями…
Как и Фауст, Мастер получил свои дары в пасхальную ночь. Пасха – значит переход. Мастер в эту ночь перешел от земной жизни к посмертному, вечному существованию. Качество перехода определяет и качество этого существования. Вот последнее земное слово Мастера: «- Отравитель, – успел еще крикнуть мастер. Он хотел схватить нож со стола, чтобы ударить Азазелло им, но рука его беспомощно соскользнула со скатерти». Вот первое слово его призрака: «Открыв глаза, тот глянул мрачно и с ненавистью повторил свое последнее слово: – Отравитель…». Со мраком в душе Мастер перешел рубеж вечности. «Он не заслужил света…».
Заметим, кстати, что Мастер не смог встретить свою смерть как Иешуа. Никаких «добрых людей». Иешуа – не его идеал. Симпатии и сердце Мастера с Пилатом.
Пилат же провел «двенадцать тысяч лун»[254] с разбитой чашей вина и верным псом. Теперь Мастеру предстоит та же участь: с пустой ретортой, сухим гусиным пером и неотвязной Маргаритой…
В те же годы другой великий писатель – Толкиен пояснил, кто может дарить вечность такого качества, т. е. земные блага, умножаемые на бесконечность. Бессмертие на земле – это дар от Кольца Всевластья, точнее от его Черного Властелина. Бильбо тяготится этим даром: «я чувствую себя как кусок масла, размазанный по слишком большому куску хлеба»[255].
Такая же боль ждет и Мастера в домике, который подарил ему сатана. Пытка покоем. Наказание тупиком. Пусть вишни, пусть Маргарита. Но нет Христа. Нет вертикали, Выси. И даже Воланд распрощался с Мастером навсегда. Маргарита подчеркивает, что это «вечный дом» Мастера…
И вновь сравним с Толкиеном. В его рассказе «Лист Ниггла» все очень похоже. Умирает осмеянный всеми художник. И он поселяется в своей последней картине. Тоже дом, тоже дерево… Но, проживя в этом мире время, необходимое для исцеления его души, художник идет дальше – в Горы. А Мастеру некуда идти из своего бес-светного покоя… Ведь «вода жизни» для него – не Христос, а просто водка[256].
Когда-то Воланд напомнил: «все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере». Мастер получил по своей вере. Но по тому, что он получил, можно составить представление о предмете его веры, о скудости его веры и его мечты… «Вы нас убили, мы мертвы. Ах, как это умно! Как это вовремя!».
Завершение романа могло бы показаться оптимистическим: Пилат ушел с Иешуа, Мастер получил покой… В полете с Воландом преображаются все – меняется Маргарита, меняется сам Воланд, становится красив Бегемот, из шута в рыцаря преображается Коровьев, меняет свои черты Азазелло. Преображаются все – кроме Мастера. Мастер меняется лишь в одежде. Ни глаза, ни лицо, ни душа у него не меняются: «Маргарита хорошо видела, как изменился мастер. Волосы его белели теперь при луне и сзади собирались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто знакомой хорошо и любимой, и что-то, по приобретенной в комнате N 118-й привычке, сам себе бормотал». Пациент остался пациентом…
А вот – последнее появление Мастера в романе: «Женщина выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося обросшего бородой человека. – Так, стало быть, этим и кончилось? – Этим и кончилось, мой ученик, – отвечает номер сто восемнадцатый, а женщина подходит к Ивану и говорит: – Конечно, этим. Все кончилось и все кончается… И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо».
Так чем же «все кончилось»? – Вот этим: «пугливо озираясь». Мастер, и так в ходе романа лишенный имени (точнее – донашивающий один из титулов Воланда), теперь и просто становится номером… Ничего себе «покой»!
А логический финал судьбы Маргариты был прописан в романе еще раньше. Развязка произошла уже тогда, когда Маргарита приняла предложение стать хозяйкой сатанинского бала: «Короче! – вскричал Коровьев,- совсем коротко: вы не откажетесь принять на себя эту обязанность?» «- Не откажусь»,- твердо ответила Маргарита. «Кончено!» – сказал Коровьев».
Так, может, просто сбылся старый сон Маргариты? «Сон, который приснился в эту ночь Маргарите, был действительно необычен. Дело в том, что во время своих зимних мучений она никогда не видела во сне мастера. Ночью он оставлял ее, и мучилась она только в дневные часы. А тут приснился. Приснилась неизвестная Маргарите местность – безнадежная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина, а далее, – меж деревьев, – бревенчатое зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня, не то черт знает что. Неживое все кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека! И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но он отчетливо виден. Оборван он, не разберешь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит ее рукой, зовет. Захлебываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась» (гл. 19).
На такое подозрение наводит то обстоятельство, что «Ни в одной редакции романа герой так и не увидит свой вечный дом. Не войдет в него… Покой мастера навсегда останется обещанным ему. Только обещанным»[257]. Сам Мастер не видит никакого домика и сада. «Мастеру казалось…» – вот последнее переданное Булгаковым состояние Мастера. Лишь Воланд и Маргарита нашептывают ему о том, что вот-вот будет дано ему в награду. Этакая «агитбригада ада». Точно так же Иешуа успокаивает Пилата вопреки всякой очевидности. Иешуа уверяет Пилата, что казни не было, но при этом сам Иешуа предстает в этой же сцене «в разорванном хитоне и с обезображенным лицом». Иешуа (вновь говорю: Иешуа – персонаж романа, написанного Мастером и Воландом – Мессиромастером – а не евангельский Иисус) и Маргарита в равной степени используются Воландом.
Маргарита ради встречи с Мастером готова была стать ведьмой, отдать и душу и тело сатане. Сначала Мастер зовет Маргариту в «баню с пауками». Маргарита согласна. Что ж, настала ночь оплаты счетов. Теперь она ведет Мастера по указке Воланда.
Дары Воланда всегда имеют двойное дно. «Дьявол очень старый вор. Не веди с ним разговор», – говорил архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской), когда-то поэт и блестящий молодой человек, друг Марины Цветаевой.
«Вишни. Река. Мечтание. Стихи»… Финал «подчеркнуто, нарочито идилличен; он перенасыщен литературными атрибутами сентиментально-благополучных фильмов. Такая подчеркнутая литературность и сама по себе способна уже вызвать подозрения»[258]. А уж если все эти штампы даруются сатаной…
Не стоит завидовать участи Мастера. Тот, кто всю жизнь сам себя добровольно заключал то в музей[259], то в подвал, то в психушку, и по смерти не найдет свободы.
Может быть, потому, что Воландовы дары будут не утешать, а терзать, Воланд и маскируется и на прощанье говорит, что поднесенные им дары не толкьо и не столько от него самого, сколько от Иешуа: «то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа за вас же».
Плохо кончается роман. Беспросветно. В этом отличие фаустианы ХХ века от традиции прошлых веков. Нет здесь Deus ex machina. Нет спасающего и всеизменяющего вторжения Божьего промысла. И это самое страшное предупреждение романа: всё может кончиться плохо. Есть такая мера человеческого забвения о Творце и отречения от Него, когда и Небо уже бессильно. Шутки могут заходить необратимо далеко.
ЗАСЛУЖИЛ ЛИ БУЛГАКОВ ПАМЯТНИК?
Булгаков – да. Но не Мастер и не Воланд!
Но в 2000 году скульптор Александр Рукавишников решил украсить Патриаршие пруды весьма сложной конструкцией. Булгаков сидит на сломанной скамейке на берегу пруда. От Булгакова по незамерзающей воде пруда уходит Иешуа (вода для этого будет специально подогреваться и зимой парить, явственно напоминая о бассейне имени Храма Христа Спасителя). В воздухе же будет парить примус с нечистой силой. По проекту, у примуса нет дна и под него может зайти любой желающий – на внутренней поверхности примуса художник намерен запечатлеть сцены из «Мастера и Маргариты», связанные с похождением в Москве Воланда и его свиты.
Похоже, что масштабы присутствия черной силы в Москве со времен Булгакова по мнению скульптора сильно увеличились: примусу он намерен придать 12-метровую высоту. «- Я хотел представить три мира, – сказал «Известиям» Александр Рукавишников. – Библейский, мир нечисти и мир москвичей. Последний можно будет видеть живьем – москвичи остались прежними. А первые два мы воспроизводим. Кстати, примус будет и памятником, и фонтаном одновременно – он будет и «писать», и светиться»[260].
Ошибся скульптор. Москвичи не остались прежними. Многие из них переболели-таки бездомством и берлиозовщиной. И стали более чутки к религиозной тематике и более нетерпимы к сатанизму. Поэтому и начались и письма протеста, и пикеты.
Одно из таких писем было подписано Михаилом Ульяновым, Владимиром Спиваковым, Юрием Башметом, Сергеем Михалковым, Людмилой Гурченко: «…Установка на берегу пруда 12-метрового примуса с нечистой силой как минимум неэтична по отношению к чувствам верующих. Так же, как и фигура булгаковского Иешуа, ступающего «по воде яко по суху»… Мы крайне обеспокоены постоянными слухами о планах превращения Патриарших прудов в своего рода торгово-экономическую зону с дорогими магазинами, ресторанами и казино… Нельзя же все время мерить жизнь города по понятиям прибыли…»[261]. Пока настала тишина… Увере нности, что над главами москвичей (а равно над главами Булгакова и Иешуа) не водрузят примус с Воландом еще нет.
В православной традиции одна из форм почитания святыни и приобщения к исполняющей ее благодати – прохождение паломников под святыми предметами (чудотворными иконами или мощами святых). В проекте Рукавишникова москвичам предлагается проходить под примусом с нечистью. Для религиозного человека в этом ощутим привкус какой-то оккультной инициации… Так что установка такой конструкции навсегда разделит христиан и почитателей посмертно демонизированного Булгакова.
Мне же представляется, что прежде установки такого памятника стоило бы ответить на три простых вопроса. 1) Хотел ли бы Булгаков, чтобы Воланд и его свита навсегда прописались в Москве? 2) Хотел ли бы сам Булгаков провести вечность в созерцании Воланда? 3) Хотел ли бы сам Булгаков быть с Иешуа (не с библейским Христом, ученики Которого носили мечи, а Сам Он не гнушался обличения ни словом, ни бичом – а с заискивающим Иешуа)?
Надеюсь, в своей книжке мне удалось пояснить, что на все три вопроса булгаковский ответ был бы – «нет!».
Памятник Булгакову нужен. Но пусть его ставят те, кто умеет читать Булгакова. Пусть будет памятник. Пусть будут пьесы и фильмы по булгаковскому роману. Но есть формула их удачи[262]: они должны совпадать с авторским, булгаковским видением его персонажей. А особенностью этого видения является то, что в романе просто нет положительных персонажей. Ни Воланд, ни Иешуа, ни Мастер, ни Маргарита не вызывают восхищения Булгакова и не заслуживают восхищения читателей и режиссеров. Свои несогласия, сатиризмы, отрицания Булгаков вкладывал в уста этих своих персонажей. Но свою веру им он не доверил.
***
Ну, а вдумчивый читатель романа, не принадлежащий к литературным шариковым – что же он-то должен был бы вынести из романа? Поняв реальность и мощь черного властелина, свое бессилие перед ним, а также пошлость атеизма – куда он должен был бы обратиться? – Туда, где крестное знаменье не атавизм, пробужденный внезапным испугом, а норма жизни, веры, любви и надежды. К Церкви. Воля Булгакова туда шла. Навстречу же Церковь простирала свою молитву.
В булгаковском архиве сохранилась записка неизвестного автора, адресованная Марфуше, домработнице Булгаковых в последние месяцы жизни Михаила Афанасьевича. В ней говорится: «Милая Марфуша! Прилагаю просфору за болящего Михаила. За обедней молились, молебен был, свечку ставила, дала на хор, там поют слепые. Завтра будут молиться за ранней обедней. Дала нищим, чтобы молились за болящего Михаила и сама горячо за него молилась»[263].
На литературном же уровне то, на что Булгаков лишь намекал, прямо дерзнул сказать десятилетием позже Борис Пастернак – романом «Доктор Живаго». У обоих романов схожая структура: «роман в романе». И Мастер и Юрий Живаго – литераторы. Их произведения публикуются в составе больших романов, персонажами которых являются они сами. Предмет творчества Мастера и Жеваго схож: Страстная неделя в Иерусалиме.
Но Пастернак дерзнул обойтись без сложной системы булгаковских зеркал и маскировок. Пастернак прямо сказал о Том, Кого Воланд пытался подменить своим мастерски изготовленным Иешуа: «Они хоронят Бога»[264].
У читателя же есть выбор между двумя образами христианства. Или считать себя «христианином без догм и конфессий», – но при этом помня, что именно такое «христианство» выкроил Воланд. Или же быть ортодоксом. Таким, как Борис Пастернак, Анна Ахматова, Александр Солженицын, Валентин Распутин.
Так что не надо позорить русскую литературу и отождествлять позицию Булгакова и позицию Воланда. Если считать, что через Воланда Булгаков выразил именно свои мысли о Христе и Евангелии, то вывод придется сделать слишком страшный. Если уж великий русский писатель сделал сатану положительным и творческим образом в своем романе – значит, Русская Литература кончилась. Осталась журналистика, у которой можно учиться разве что владению языком[265].
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗА ЧТО КАНТУ ГРОЗИЛИ СОЛОВКИ?
Свое знаменитое «нравственное доказательство бытия Бога» Кант начинает с общеизвестной посылки: ничто не происходит в мире без причины. «Если бы мы могли исследовать до конца все явления воли человека, мы не нашли бы ни одного человеческого поступка, который нельзя было бы предсказать с достоверностью и познать как необходимый на основании предшествующих ему условий»[266]. Или: «Возьми какой-нибудь произвольный поступок, например, злостную ложь, посредством которой какой-нибудь человек внес известное замешательство в общество; сначала мы исследуем ее мотивы, затем разберем, насколько она может быть вменена человеку вместе с её последствиями. Для решения первой задачи мы прослеживаем его эмпирический характер вплоть до источников, которые мы ищем в дурном воспитании, плохом обществе, отчасти даже в злобности его природы, нечувствительной ко стыду, и отчасти в легкомысленности и опрометчивости, не упуская, впрочем, из виду также и случайных побудительных причин. Во всем этом исследовании мы действуем точно так же, как и при изучении того или иного ряда причин, определяющих данное явление природы».
Принцип детерминизма (то есть причинно-следственных отношений) — это самый общий закон мироздания; ему подчиняется и человек, но в том-то и дело, что — не всегда. Бывают случаи, когда человек действует свободно, ничем автоматически не понуждаемый. Речь не идет о нашей полной независимости. Вопрос в том, всё ли определяется этими зависимостями, исчерпывается ли человек этими зависимостями — или хотя бы на одну сотую и он убегает от них. Как часто он пользуется своей свободой — это уже другой вопрос. Мы по шею стоим в зависимости от нынешнего мира — это есть. Но есть и свобода.
Если же мы скажем, что у каждого человеческого поступка есть свои причины, то награждать за подвиги надо не людей, а эти самые «причины», и их же надо сажать в тюрьму вместо преступников. «Но хотя мы и полагаем, что поступок определялся этими причинами, тем не менее мы упрекаем виновника, и притом не за дурную природу его, не за влияющие на него обстоятельства и даже не за прежний образ его жизни; действительно, мы допускаем, что можно совершенно не касаться того, какими свойствами обладал человек и рассматривать исследуемый поступок — как совершенно не обусловленный предыдущим состоянием, как будто бы этот человек начал им некоторый ряд совершенно самопроизвольно»[267]. Там, где нет свободы — там нет ответственности и не может быть ни права, ни нравственности. Кант говорит, что отрицать свободу человека — значит отрицать всю мораль.
А с другой стороны, если даже в действиях других людей я и могу усматривать причины, по которым они поступают в каждой ситуации именно так, то как только я присмотрюсь к себе самому, то должен будут признать, что по большому счету я-то действую свободно. Как бы ни влияли на меня окружающие обстоятельства или мое прошлое, особенности моего характера или наследственность — я знаю, что в момент выбора у меня есть секундочка, когда я могу стать выше самого себя… Есть секундочка, когда, как выражается Кант, история всей вселенной как бы начинается с меня: ни в прошлом, ни вокруг меня нет ничего, на что я смел бы сослаться в оправдание той подлости, на пороге которой я стою…
Кантовский императив задает совершенно определенную онтологию, в которой весь внешний мир рассматривается как абсолютно проницаемый для нравственного деяния, как не имеющий собственной аксиологической плотности, которая могла бы привести к неустранимым отклонениям моего поведения. У этого мира нет собственного напряжения, способного внести возмущение в поле нравственного поступка. Такой мир полностью прозрачен для оценивающего человека: деятель, взвешивая последствия выбранного поступка, способен как бы сквозь мир видеть самые отдаленные его последствия. Эта аксиологическая бессубстанциальность мира означает, что в каждом решении человек выбирает весь мир.
Каждое человеческое действие может описываться двояко: как результат некоего причинного ряда и как его начало. Оно может рассматриваться как суммирование наличности, как ее равнодействующая — или как прорыв за ее пределы, творение нового. Возможно такое действие, которое становится причиной последующих событий, но само оно свободно, беспричинно. Возможно причинение через свободу[268].
«Каждый злой поступок, если ищут его происхождения в разуме, надо рассматривать так, как если бы человек дошел до него непосредственно из состояния невинности. В самом деле, каково бы ни было его прежнее поведение и каковы бы ни были воздействовавшие на него естественные причины, а также заключались ли они в нем или были вне него, все же поступок его свободен и не определен ни одной из причин; следовательно, о нем можно и должно судить как о первоначальном проявлении его произвола. Нет таких причин в мире, которые могли бы заставить его перестать быть существом, действующим свободно»[269].
Итак, в рамках практического разума, то есть в морали, мы не можем описывать поведение человека исключительно в категориях детерминизма. Как не осуждают луну за то, что ее не видно днем, так нельзя винить и того, чья человечность не проявилась в некий день, самый важный для него и его ближних. Как не награждают Волгу за то, что она впадает в Каспийское море, так же нелогично награждать соответствующей медалью хорошо воспитанного и генетически благополучного молодого человека за отвагу при пожаре.
Нравственная область свободы — область должного, природа и мир явлений — область наличного. «Невозможно, чтобы в природе нечто должно было существовать иначе, чем оно действительно существует, более того, если иметь в виду только естественный ход событий, то долженствование не имеет никакого смысла. Мы не можем даже спрашивать, что должно происходить в природе, точно так же как нельзя спрашивать, какими свойствами должен обладать круг; мы можем лишь спрашивать, что происходит в природе или какими свойствами обладает круг»[270]. Если человек есть исключительно часть «природы», то и человеческое поведение нельзя описывать в категориях «долга». Что бы ни натворил человек – реакция может быть только одна: «так получилось» и иначе быть просто не могло.
К сожалению, эти позитивистские описания прочно укоренились в сознании общества, дерзающего назвать себя «постхристианским». Девушка ушла в публичный дом — и, конечно, мы понимаем, почему: крушение коммунистической идеологии, духовный вакуум, влияние улицы, плохое воспитание, недостаток культуры. Девушка ушла в монастырь. Нам и здесь все ясно: крушение коммунистической идеологии, духовный вакуум, недостаток культуры, плохое воспитание, влияние улицы.
Но то, что в человеческом обществе есть нравственная оценка наших действий, означает, что наша совесть видит в нас самих некоторое акосмическое явление. В моей сегодняшней ситуации выбора я вижу некую брешь, пробитую в железном сцеплении причин и следствий: я могу выбрать другое будущее и вести его генеалогию из другого прошлого. Есть несколько рядов причин, каждый из которых «желает», чтобы мое настоящее определялось им. Есть ряд побудительных мотивов, ряд причин, которые сейчас могут произвести через меня грех. А есть такие причинные цепи, такие событийные связи в моем прошлом, которые могут разрешиться благим действием. Но от моего личностного произволения зависит – какому из этих рядов я позволю осуществить свою актуализацию в эту минуту.
Если в мире явлений свободы нет, а в человеке она есть, значит, мир явлений еще нельзя назвать подлинным миром, это — еще не весь мир. «Так как сплошная связь явлений в контексте природы есть непреложный закон, то это неизбежно опрокидывало бы всякую свободу, если бы мы упорно настаивали на реальности явлений»[271]. Или, как уточняет Владимир Соловьев эту кантовскую мысль — «если бы только нужно было признавать исключительную реальность явлений»[272]. Значит, феномен свободы есть проявление иного бытия в нашем обычном порядке бытия, в мире феноменов, связанных друг с другом причинно-следственными отношениями. Бытие не исчерпывается миром явлений, не исчерпывается кругом явлений, взаимно повязанных друг с другом по принципу детерминизма.
Так Кант выходит к фундаментальной идее всякой серьезной метафизики — к утверждению иерархии, наличия разных по своей значимости и основательности уровней бытия. Есть объекты онтологического минимума, есть точка омертвения свободы, а есть вершины онтологической напряженности. Человеческая свобода — реальность, философски более значимая, чем мир явлений. Но основной закон иерархии гласит, что низшее не может породить высшее. Свобода не может быть понуждена к бытию миром детерминизма. Если свобода есть способность исходит из самого себя, то у свободы не может быть причины, и мир не мог породить свободу. Если причина необходимым образом произвела свободу, то слово свобода к результату не приложимо. Свобода не понуждается к бытию миром детерминизма, свобода получается из небытия. Она может возникнуть только «из ничего» — таков один из смыслов христианского креационизма. Но мир свободы и мир детерминизма все же находятся в единстве, в связи. Если эта связь идет не от мира детерминизма к миру свободы — значит, мир свободы послужил причиной для возникновения мира детерминизма. Это значит, что мир причин может быть только порождением мира свободы. «В начале была Свобода». А потому — «среди благодеяний укажем на избавление от необходимости, на неподчинение господству природы, на возможность свободно располагать собой по своему усмотрению» (Св. Григорий Нисский. Об устроении человека, 16).
Ощущение человеческой свободы столь свойственно христианству, что даже митрополит Антоний (Храповицкий), строя не вполне православную богословскую систему, в которой есть определенные реверансы в сторону пантеизма, резко определяет: «Бог, оставаясь субъектом всех физических явлений, предоставил самостоятельное бытие субъектам явлений нравственных»[273]. Поскольку христиане мыслят человека как надкосмический феномен, они могут себе позволить даже такую формулу. Оккультисты же, для которых человек не более чем «микрокосм», конечно, не могут, отрицая свободу и самобытность за миром в целом, признавать свободными и самобытными мелкие частицы несвободного макрокосма.
Значит, лишь признание онтологической иерархичности мира дает основание для свободы. Содержа в себе причинность, человек должен содержать в себе и еще нечто. Итак, человек не есть часть природы[274], у человека есть дистанция к миру вещей. Мир, откуда происходит человек — мир свободы, мир, существующий вне предикатов физического мира — времени и пространства. И это мир нравственно окрашенный, ибо его значимость и существование мы воспринимаем именно в опыте нравственного выбора[275]. И потому — говорит Кант, — «морально необходимо признавать бытие Божие»[276].
В рассуждении Канта нет абсолютной доказательности и логической принудительности. В конце концов, человек может считать себя всего лишь обычной частью мира, предметом, всецело растворенным в потоке явлений. Человек может так воспитать и стилизовать свою мысль, что детерминизм мирового процесса он будет считать безъизъятным, и даже в себе самом он не будет замечать исключения из тотальности причинно-следственных цепей. Человек может убедить себя, что свобода не более чем «осознанная необходимость». Человек может считать, что абсолютно круглых предметов в мире нет, и потому все геометрические теоремы о кругах и окружностях ложны. Но связь круга с его свойствами не прекратится даже в том случае, если действительно исчезнут все круглые предметы. Ведь геометрия имеет дело с понятиями (понятия о круге, о прямой, о точке и т. п.) и с логической связью между понятиями, а «логическая связь между понятиями не прекращается, даже если нигде нет объектов, соответствующих этим понятиям»[277].
Даже если нет ни свободы человека, ни Бога, а «свобода» и «Бог» суть лишь понятия, возникшие в человеческом сознании, все равно, как показал ход рассуждения Канта, между этими двумя понятиями есть неразрывная логическая связь. Нельзя признать одно из этих положений («свободу»), не приняв вывода из нее: Бога. Приняв свободу, человек не только логически, но и морально будет понужден к принятию Бога. Ведь одним из моральных долженствований человека является долг мыслить честно, логично, последовательно, долг принимать даже те выводы из своих открыто декларированных посылок, которые самому мыслителю кажутся нежелательными. Так вот – если философ декларировал свою убежденность в том, что человек есть существо свободное, то он морально обязан пройти путем Канта и ввести в систему своей мысли тезис о бытии личностного Бога. Или, говоря словами самого Канта о кантовском доказательстве бытия Бога: «Этот моральный аргумент вовсе не имеет в виду дать объективно значимое доказательство бытия Бога или доказать сомневающемуся, что Бог есть; он только доказывает, что если сомневающийся хочет в моральном отношении последовательно мыслить, то он должен признание этого положения принять в число максим своего практического разума»[278]. Кантовский аргумент действенен лишь при одном совершенно неформальном и внефилософском условии: если человек хочет мыслить…
Итак, свобода человека может быть обоснована лишь в случае, если у него есть надмирное, надматериальное происхождение. Только имея точку опоры в горнем, можно быть свободным от всецелой тирании снизу. Если есть только поток феноменов, то у меня нет свободы. Право не соблюдать основные законы страны имеют только послы. Вот «и живем мы в этом мире послами не имеющей названья Державы» (Александр Галич). «Понял теперь я: наша свобода – только оттуда бьющий свет» (Николай Гумилев).
«Мастер и Маргарита»: Евангелие от Воланда?
Интервью журналу «Град Духовный» (Санкт-Петербург, 2004, № 4)
Что объединяет режиссера Владимира Бортко и диакона Андрея Кураева? Они оба очень тщательно и досконально изучили роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Оба хотят предложить нам с вами свой вгляд на эту книгу. Один снимает 10-серийный фильм, другой пишет труд, представляющий собой религиоведческое исследование. В августе месяце два этих именитых человека решили встретиться для того, чтобы познакомиться и просто потому, что обоих волнует одно и тоже – сам роман и его восприятие современным обществом.
Андрей Кураев привез Владимиру Владимировичу свою пока еще ненапечатанную книгу. Владимир Бортко подарил Кураеву 10 томов сценария своего фильма и рассказал подробно о том – как, где и над чем он сейчас работает. Но для начала он все-таки решил поставить все точки над и.
— Ничего мистического в этом романе нет. «Когда он взялся за съемки, у него пошли руки коростой» – ЭТО БРЕД! Книга имеет отношение больше к поэзии, чем к философии. Я хочу уничтожить вокруг этой книги любой налет мистицизма.
Они дискуссировали долго, часа два, в том числе и о мистицизме…
Но это был очень личный разговор, не для печати…
ИНТЕРВЬЮ с диаконом Андреем Кураевом, который согласился поделиться первыми впечатлениями от знакомства с Бортко и Ленфильмом.
-Главное ощущение от этой встречи?
— Я думаю, что не совсем корректно, только что побеседовав с человеком, сразу же давать интервью по поводу этой беседы без его ведома. Однако, есть один тезис, который он высказывал не только в беседе со мной, а, значит, и я могу его процитировать: цель его фильма – выпутать восприятие булгаковского романа из паутины мистики, сделать его рациональным и понятным через обнажение политических, психологических, социальных реалий, отраженных в романе.
Что ж, с одной стороны, я был бы совсем не против, если бы удалось демифологизировать булгаковский роман, если бы его стали читать как некую литературную сказку для взрослых, не видя в нем ни учебника жизни, ни тем более учебника веры. Но боюсь, что даже такому талантливому мастеру, как Бортко, это будет не по силам. Есть инерция восприятия романа, есть (простите, я сейчас перейду на жаргонный язык) аура самого романа, которая все-таки безусловно мистична. Разрешит ли сам роман сорвать с себя эту мистическую ауру?[279]
Кроме того, я не уверен, что Булгаков хотел бы, чтобы мистическую линию его романа воспринимали как некую чисто литературную мистификацию, как этакий чисто технический контрфорс, подпирающий строительство большого антисоветского фельетона. Я не уверен, что такого рода профанирующее прочтение романа отвечает булгаковскому замыслу. Так что Бортко задумал рискованную и интересную вещь. Посмотрим, чей талант здесь пересилит.
Задача моей книги, с которой Владимир Владимирович уже познакомился (а в печати она станет доступна в конце сентября), была в том, чтобы те религиозные мотивы, которые там есть, поставить в контекст богословских и религиоведческих знаний.
Почему, например, Воланду нужен помощник при написании им его версии евангельских событий? В версиях булгаковского романа с 29 по 32 годы Воланд сам выступает как «черный богослов» (это один из вариантов названия романа), а то, что потом будут называть «пилатовы главы», называлось «Евангелие от Воланда». Так почему же потом авторство перешло к Мастеру? Я полагаю, что Булгаков вспомнил, что с точки зрения православного богословия (а его отец был профессором богословия в Киевской Духовной Академии) только человек наделен даром творчества. Ангелы, в том числе и падшие, не могут создавать ничего принципиально нового… Оттого Мефистофели и ищут своих Фаустов по векам и странам…
— Ваши позиции с Бортко совсем несовместимы?
— Отчего же? Булгаковский роман подобен «Наполеону» (тому, который торт): в нем есть масса других пластов – социальных, политических, автобиографических. Но их я не затрагиваю и разрабатываю тот слой, в котором я хоть немножко компетентен – религиоведческий. Бортко же интересует «советологический» срез романа. То есть в некотором смысле мы разрабатываем тематику этого романа в параллельных пластах. Общее наше убеждение – нельзя трусить и предавать. Есть вещи, которые нельзя делать играючи, есть предельная ответственность человека за свои слова и поступки и за свои не-слова и не-поступки. Для Бортко это в первую очередь ответственность перед людьми, перед страной, перед совестью. Для меня значима и тематика ответственности перед Богом за свою душу. К позиции Владимира Владимировича я добавляю один тезис: нельзя предавать не только людей, но и Бога. А подмена евангельского Христа воландовским артефактом (Иешуа) – это как раз такое предателньство.
Если бы Владимиру Владимировичу удалось свести массовое восприятие этого романа к советологическому слою, я был бы даже… скорее рад. В том смысле, что мне всегда легче говорить с атеистом, чем с оккультистом. В современном мире быть атеистом не так уж плохо – потому что в условиях, когда все вокруг ждут, чего же им на этой неделе «предсказамус настрадал», чистят свои чакры кедровыми шишками и ищут космическую энергию в своей моче, быть просто неверующим, трезвым человеком – это означает быть гораздо ближе к Евангелию.
С Бортко мы по разному слышим молчание романа. В романе нет даже упоминания о Боге. Для Владимира Владимировича это повод к полному забвению религиозной тематики при чтении этой книг. Для меня же Бог именно Своим отсутствием становится важнейшим персонажем: только в Москву, которая забыла о Боге, отреклась от Него и взорвала Храм Христа, и мог заявиться «знатный иностранец».
— Почему Вы так хотели, чтобы режиссер, и творческая группа познакомились с вашей книгой?
— Главное, что я хотел бы донести до труппы, которая работает над фильмом: эта книга – большой фельетон, в котором нет положительного героя (и в этом она сродни «Ревизору»). Не надо идеализировать никого – ни Иешуа, ни Мастера, ни Маргариту, ни профессора Понырева. Не в том смысле, что это не идеал с точки зрения моей или какого-то иного читателя. Важнее то, что Булгаков сам вносит занижающие черты в эти образы. Именно по стилистическим нюансам, которые всецело во власти самого автора, становится понятно, что отношение Булгакова к этим персонажам далеко не возвышенное. То у него Иешуа «шмыгнет носом», то Маргарита «улыбнется, оскалив зубы». Вы можете себе представить, чтобы у Льва Толстого Наташа Ростова «оскалила зубы»?
С профессиональной же точки зрения меня особо возмущает идеализация Ивана Бездомного, ставшего в конце «профессором». Но – где? И как? Профессорствует он в «Институте философии и истории». Значит, он или философ или историк. Так отчего же школьные учебники столь категорично утверждают, что Иванушка – именно историк, «обретший свою Родину»?
Я по светскому образованию философ, причем даже скажу, советский философ, поэтому, когда я вижу сочетание «Институт философии и истории», я обращаю внимание на слово философия, а не слово история. Я убежден, что Бездомный, к сожалению, стал моим официальным коллегой, то есть он философ, а не историк. Почему я так говорю? Потому что за те 7 лет, которые прошли от встречи на Патриарших прудах до эпилога, из неграмотного рабкора, ничего не знающего ни о Канте, ни о Филоне Александрийском, стать профессором истории невозможно ни при каком режиме. Даже в сталинские годы. Да, тогда громили целые исторические школы, но профессионализм профессоров все же сохранялся. А вот философии в стране в те годы не было. Была идеологическая обслуга партии. И в этой лакейской вполне могли быть такие чудесные карьеры. Как пример модно вспомнить Марка Борисовича Митина, которого Сталин объявил академиком, минуя всякие формальности вроде защиты докторской диссертации (коллеги этого академика величали «Мрак Борисович»). Кто лучше обслуживал правящую элиту, тому давали и звание и жилье (свои метры получает и Иванушка). Так что, я боюсь, что Иванушка стал отличником политучебы и ударником политпромывки мозгов, и поэтому видеть в нем персонажа, положительного в глазах Булгакова – значит приписывать Булгакову нечто весьма анти-булгаковское.
Является ли Мастер положительным героем с точки зрения Булгакова? Мне кажется, что и это не вполне очевидно. Например, изначальное место работы Мастера – в музее. Это мы с вами привыкли, что в 60-ые и 70-ые годы в музеи уходили диссиденты, люди, которые не хотели цитировать документы ЦК КПСС. Они уходили в какой-нибудь музей древнерусского искусства, пушкинский музей, лермонтовский, и там дышали воздухом родной старины. Но много ли в советской Москве 30-ых годов было музеев? – Музей революции да Музей Ленина. Так что Мастер – это не Булгаков.
— Один из достаточно радикальных вглядов в церковной среде – «Мастера и Маргариту» Булгакова вообще не надо читать, не полезна, пропаганда сатанизма. Ваше отношение к этой позиции…
— Всегда легче всего обойти, убежать. Иногда такая позиция может быть и правильной, но когда она становится господствующей, когда по отношению к слишком многим реалиям вдруг многие церковные люди начинают действовать в таком эскапистском духе – ничего не читать, ничего не смотреть, ничего не думать, а все заклеймить, осудить, все не наше.. В общем, это путь сект, путь в тупик.
Церковь в истории своих святых показала, что церковь должна сражаться даже за светскую культуру. И не только светскую… Я начну от старины – потому что предвижу недалекое будущее. Предвижу же я, что среди критических публикаций в адрес нового фильма Владимира Бортко будут те, которые и в романе, и в фильме увидят проповедь антисемитизма – как это произошло с фильмом Мэла Гибсона «Страсти Христовы». Так вот в этих слишком навязчивых дискуссиях насчет связи христианства и антисемитизма, я бы хотел обратить внимание на одно обстоятельство:
Среди первых богословских задач, которые встали перед новорожденной Новозаветной церковью, была задача оправдания еврейского Священного Писания. Были радикалы среди тех, кто считал себя христианами («гностики») – они противопоставляли Евангелие Ветхому Завету. Были крайне жесткие критики священных еврейских («варварских») текстов из греко-римской среды.
И потому изряднейшая часть трудов первых поколений церковных богсоловов (Иустин Философ и Иоанн Златоуст, Ориген и Климент Александрийский) посвящена защите еврейских Священных Книг.
С другой стороны, христианские авторы взяли под защиту античную греческую культуру и литературу – а ее защищать надо было от некоторых церковных людей. Святые богословы смогли показать, что и Платона, и Софокла можно читать христианам и можно читать глазами христиан. Христианин не обязан оставлять за собой сожженные мосты и библиотеки.
И вот именно эта установка на опознание духовных солнечных зайчиков в многообразном мире человеческой культуры, в том числе и нецерковной, стала господствующей и созидающей в церковной истории.
И поэтому, когда я сегодня пробую заметить добрые «эхи» в «Матрице», в «Гарри Поттере», или, скажем, в «Мастере и Маргарите», то считаю, что я как раз следую традиционным путем церковного богословия.
Но, конечно, для того, чтобы работать так с нецерковным культурным материалом, надо знать его и думать над ним. Не всем такой труд по душе. Легче осудить и закрыться. Но если мы будем убегать отовсюду, то в конце концов мы все пространство вокруг себя из союзного или нейтрального сами же превратим во враждебное.
Книга Булгакова присутствует в высокой культуре России. Эта книга присутствует в обязательной школьной программе. Эта книга, через которую проходят все наши дети. И если мы от имени церкви заклеймим этот роман сатанизмом, мы окажем хорошую услугу именно антихристианским группам и движениям. Вот для того, чтобы «Мастер и Маргарита» не превращался в учебное пособие по сатанизму, для этого и Церковь должна снять клеймо сатанизма с этой книги. Впрочем должен заметить, что Церковь никогда такого клейма и не ставила. Не надо отождествлять отдельные публикации отдельных церковных публицистов, в число которых вхожу и я, со мнением всей Церкви.
P.S. «В создании образа Маргариты Анне Ковальчук помог «Дневник Мастера и Маргариты» (дневник Елены Сергеевны Булгаковой), который актрисе подарили перед съемками. Кроме того, узнав, что Анна будет играть Маргариту, дьякон Андрей Кураев прислал ей свою рукопись о произведении Михаила Булгакова. Все это помогло ей по-новому переосмыслить роман. «Раньше я не задумывалась, почему этого героя зовут именно так, что значит то или другое. А когда узнаешь историю романа, его рождение через муки, пот, кровь и другие испытания, становится сложнее работать. Появляются вопросы: кто такой герой Иешуа? И вообще любовь ли это? Не все так однозначно», – признается актриса».
(http://vi-leghas.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=3326&Itemid=5)
«Известия: Кого в вашем персонаже больше – Мастера или самого Булгакова?
Галибин: Конечно, изначально ты отталкиваешься от образа, созданного в книге. Но когда дело доходит до душевных переживаний героя, не обратиться к личности автора невозможно. Тем более что, повторюсь, игрового поля в роли Мастера нет. Хотя сыграть сумасшедшего не так уж трудно. Мне в этом помогла работа в «Рагине» (экранизация «Палаты № 6». – «Известия») Кирилла Серебренникова. К этой роли я очень готовился: читал книги, научные труды, причем не современные, а написанные на рубеже XIX и XX веков, вспомнил, как я сам посещал дурдом. Наверное, этот багаж помог мне и в «Мастере и Маргарите», потому что сцена встречи Мастера с Бездомным и последующее откровение Мастера меня очень тревожили. Но в целом я отталкивался от мысли Кураева, что Воланд не просто так посетил Москву, что все это была запланированная им акция и что единственный режиссер романа – Сатана. (http://www.izvestia.ru/media/article3044401 Известия 27.12.05)
Об экранизации романа Владимиром Бортко см. беседу на радио «Эхо Москвы» 9 января 2006 г.: http://echo.msk.ru/programs/box/41056/index.phtml
«Пусть знают!»
(Литературная газета 2005, № 1).
Признаться, не без некоторого усилия принимался я за книгу диакона Андрея Кураева «Мастер и Маргарита»: за Христа или против?» Ибо мне всегда представлялись чрезмерно натянутыми и даже бессмысленными попытки анализировать великий роман Михаила Булгакова сугубо с религиозной, а тем более с ортодоксально религиозной точки зрения. Обычно они заканчиваются обвинениями художественного творения Булгакова в кощунстве, в том, что перед нами «Евангелие от Сатаны», что роман написан «с воландовых позиций»… И тому подобное. Не вызывали особого интереса и исследования, смысл которых сводился к тому, что писатель «вывел образ Христа, более отвечающий современным христианским идеалам, чем канонический».
Все эти ниспровержения и интерпретации представлялись просто слабыми и ненужными потугами в сравнении с оглушительным впечатлением, какое произвело ещё первое чтение романа в студенческие годы. При чём тут соответствие или несоответствие чему-то, когда перед тобой творение художника, наделённого удивительным, неподражаемым пластическим даром описания? Творение художника-создателя, способного своим словом сотворить собственный небывалый доселе мир, герои которого западают в память куда прочнее даже окружающих живых людей? И самое главное – от романа запомнилось и осталось уже навсегда светлое и поднимающее впечатление. Что тут может быть кощунственного?
И вот книга диакона Кураева. И первые же слова: «Скажу сразу: так называемые «пилатовы главы» «Мастера и Маргариты» кощунственны»…
Но и тут же признание: «Я полюбил эту книгу, когда она ещё не входила в школьную программу. И мог страницами цитировать её по памяти. Даже спустя пятнадцать лет после прочтения, впервые оказавшись в Иерусалиме, я смотрел на город через булгаковские стихи (язык не поворачивается назвать прозой его описание грозы над Ершалаимом»).
Противоречие? Да нет, как показывает дальнейшее чтение, тут степень искренности, которая располагает к себе и заставляет с доверием и почтением относиться к вопросам, которые ставит автор и перед читателями, и перед самим собой.
А вопросы эти таковы. «Имею ли я право продолжать с любовью относиться к булгаковской книге, несмотря на то, что за эти годы я стал ортодоксальным христианином? Может ли христианин не возмущаться этой книгой? Возможно ли такое прочтение булгаковского романа, при котором читатель не обязан восхищаться Воландом и Иешуа, при этом восхищаясь романом в целом? Возможно ли такое прочтение романа, при котором автор был бы отделён от Воланда?»
Вопросы, согласитесь, такие, что невольно вздохнёшь: ох, и достанется сейчас несчастному художнику, который и без того настрадался при жизни со своим бессмертным творением! Как легко тут ортодоксальному христианину впасть в тон и стилистику приговора, проклятия, отлучения. И какая радость, что ничего такого в книге Кураева нет. А есть удивительно спокойное, доброжелательное, аргументированное и глубокое исследование жизни и творчества большого художника, его прозрений, страданий, заблуждений, надежд.
Кураев пишет простым и ясным языком, но его сопоставления черновых и окончательных вариантов романа, рассказы о прототипах главных героев, психологические портреты персонажей, анализ их поступков и душевных движений по-настоящему глубоки, интересны.
Вот одно из таких наблюдений. «Маргарита – не Муза Мастера. Она не вдохновляет его, а лишь слушает написанный роман. В жизни Мастера она появляется, когда роман уже почти закончен. Хуже того, именно Маргарита подталкивает его к самоубийственному поступку – отдать рукопись в советские издательства: «Она сулила славу, она подгоняла его и вот тут-то стала называть мастером».
Зачастую доводы Кураева не просто остры и проницательны, но и весьма неожиданны ещё и потому, что за ними громадные глубины многовекового христианского миропонимания, которые нам, большинству современных граждан, и не снились. «Утром в Страстную пятницу апостолы стояли за линией оцепления, с ужасом наблюдая за голгофской казнью. Утро же этой Страстной пятницы (описанной в романе. – И.С.) москвичи проводят тоже в окружении милиции, но это оцепление ограждает очередь «халявщиков», давящихся за билетами в варьете».
Но, удивительное дело, глубокие и сложные разъяснения у Кураева ничуть не подавляют, не выглядят чрезмерными и самодовлеющими. Потому что они – разъясняют роман, как бы ещё больше раздвигают его безграничные во времени и пространстве рамки. «Белая, православная Русь оказалась на положении безземельного странника в Советском Союзе. Её земные храмы взрывались и закрывались. Но независимо от решений правящей атеистической партии каждый год приходила весна. И вне всяких пятилетних планов наступало весеннее полнолуние. И была среда. И был четверг. И была пятница… И приходило Воскресенье».
Что же до ответов на вопросы, приведённые выше, то они в книге есть, но я не стану их приводить. Потому что эти ответы не из серии издевательского и тупоумного «да, да, нет, да». Для того чтобы понять их, нужно вникнуть в книгу, и тогда ответы придут сами, правда, вполне возможно, что они и не сойдутся с аргументами автора.
Не собираюсь утверждать, что в книге Кураева не с чем спорить. Человеку неленивому и любопытному вполне есть с чем. В какие-то моменты богослов, миссионер, диакон заметно берёт в книге верх. И тогда появляются утверждения, отдающие монастырской суровостью и монашеской нетерпимостью. Взять то же утверждение, «что в романе просто нет положительных персонажей». Бог ты мой, да как же нет?!. А сам автор, глазами которого мы видим происходящее? Сам Михаил Афанасьевич Булгаков, человек мучительной, но и счастливой судьбы? Он прошёл огонь и кровь революции и Гражданской войны, пережил крушение мира, к которому принадлежал от рождения, он страдал и заблуждался, падал духом и пытался примириться с новой властью, которая, словно навалившаяся на грудь каменная плита, просто не давала ему дышать. Он страшно и безнадёжно болел. Но всё это время он оставался художником и писал свой великий роман, хотя и понимал, что нет никаких надежд на его опубликование. И умирая в страданиях и уже теряя сознание, он целовал женщину, которую любил, и просил сберечь роман. «Пусть знают!» – говорил он.
«Плохо кончается роман. Беспросветно». Так пишет Кураев. Но шепчет в предсмертном бреду Булгаков: «Чтобы знали… чтобы знали…» А для чего знать? Неужели лишь для того, чтобы убедиться в беспросветности и бессмысленности жизни?
Нет, Булгаков знал про свой роман и нечто иное. И это иное – то светлое, освобождающее и весёлое чувство, которое испытало множество людей, когда к ним пришла эта книга. А это ещё раз доказывает, что только художник, его интуиция и гений, истинные властители создаваемого им мира. И ни в чьей больше воле изменить его законы и суть.
Диакон Андрей Кураев написал глубокую и серьёзную книгу. И нужную. Для того, чтобы лучше понять роман Михаила Булгакова.
Игорь СЕРКОВ заместитель главного редактора «Литературной газеты»
[1] «- Славь великодушного игемона! – торжественно шепнул он и тихонько кольнул Иешуа в сердце. Тот дрогнул, шепнул: – Игемон… Кровь побежала по его животу, нижняя челюсть судорожно дрогнула, и голова его повисла». В черновике 1928-31 годов: «Иешуа же вымолвил, обвисая на растянутых сухожилиях: – Спасибо, Пилат… Я же говорил, что ты добр» (Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 425).
[2] Jovanovitc М. Utopija Mihaila Bulgakova. Beograd, 1975. s.165. Аналогична позиция М. М. Дунаева в его работе «О романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (М., 2005). Однако никаких следов собственно литературоведческого исследования эта брошюра М. Дунаева в себе не несет; автор просто берет как аксиому согласие Булгакова с Воландом и блестяще игнорирует любые контраргументы.
[3] «В черновых вариантах Булгаков позволял себе поработать в естественном настрое», – пишет булгаковед В. Лосев, цитируя набросок булгаковского сочинения (1937 г.) о Петре Первом, где в уста царевича Алексия вложены следующие слова:
Я отцовской стезей не пойду,
Старине я остануся верен.
Петербурху не быть,
Не мечтай, государь,
В Ярославль уйду жить,
Как и жили мы встарь.
Будем жить в великом покое!
И увидим опять,
В блеске дивных огней,
Нашу церковь соборную радостной,
Разольется по всей по Руси
Звон великий и сладостный!
Мы вернем благочинье, вернем,
Благолепие будет чудесное!
И услышим опять по церквам на Руси
Православное пенье небесное!
Не могу выносить я порядков отца!
Омерзело мне всё! Ненавижу его!
(Булгаков М. Дневник. Письма. 1914-1940. Сост. В. И. Лосев, М., 1997, с. 441)
В прозе ту же самую присягу на верность поруганной дореволюционной старине Булгаков дал в своем письме Сталину в 1930 г.
[4] Булгаков М. Собрание сочинений в 8 томах. Т.8. Жизнеописание в документах. Спб., 2002, с. 714. Другая версия: «В конце жизни Михаил Афанасьевич ослеп и лишился речи. Объяснялся он жестами, которые понимала лишь Елена Сергеевна, его жена. Однажды он сделал жест, что чего-то хочет. – Лимонного соку? – Отрицательный жест.– Твои работы? – Нет. – Елена Сергеевна догадалась: – «Мастера и Маргариту»? – И человек, утративший речь, огромным усилием воли произнес два слова: «Пусть знают» (Е. М. Три сновидения Ивана // Вестник РХД. Париж,1976, № 3-4, с. 230).
[5] См. Булгаков М. Собрание сочинений в 8 томах. Т.8. Жизнеописание в документах. Спб., 2002, с. 195. Кстати: «Произведя анализ моих альбомов вырезок, я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных – было 3, враждебно-ругательных – 298» (М. Булгаков. Письмо к Правительству СССР).
[6] Лосев В. И. Комментарии // Булгаков М. А. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 2. Белая гвардия. Гражданская война в России. Спб., 2002, сс. 739-740
[7] Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 410.
[8] См.: Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 592.
[9] См.: Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 593.
[10] Правительству СССР. Письмо от 28 марта 1930 г. // Булгаков М. Дневник. Письма. 1914-1940. Сост. В. И. Лосев, М., 1997, с. 227.
[11] Белозерская-Булгакова Л. Е. Воспоминания. М., 1990, сс. 182-184
[12] Мартинисты – одна из ветвей масонства.
[13] Текст этой повести ( за указание на которую я благодарен Е. Молчановой) можно найти в интернете по адресу http://fecoopa.narod.ru/chayanov/venediktov.html.
[14] Кроме того, проф. А. И. Булгаков переводил труды западных святых – блаж. Августина и блаж. Иеронима. Стоит отметить и его статью «Современное франкмасонство в его отношении к церкви и государству» (Труды Киевской Духовной Академии, 1903, вып.12), вышедшую также в виде отдельной брошюры. «Франкмасонство есть самый опасный заговор против общества, секта убийц, действующих с помощью космополитического еврейства и конспиративного протестантизма» (Булгаков А.И. Современное франкмасонство. Опыт характеристики. Киев, 1903, с. 3). Так что уже с юности Михаил Булгаков мог знать, что не только атеизм противостоит христианству, но и оккультизм, пропаганда которого активно поддерживалась именно масонством.
[15] См. Соколов Б. Булгаков. Энциклопедия. М., 2003, с. 545.
[16] Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 387.
[17] Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 44.
[18] «В Москве он писал «Белую гвардию». Однажды он мне читал про эту… молитву Елены, после которой Николка или кто-то выздоравливает. А я ему сказала: Ну, зачем ты это пишешь? Он рассердился, сказал: Ты просто дура, ничего не понимаешь!». Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 387.
[19] Цит. по: Соколов Б. Булгаков. Энциклопедия. М., 2003, с. 546.
[20] См.: Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 550.
[21] Цит. по: Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 551. При анализе дневника Е. С. Булгаковой стоит учесть, что она писала его, предполагая, что он может попасть в руки «органов». Дневники самого Булгакова были изъяты при обыске 7 мая 1926 года.
[22] См.: Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с.603.
[23] Булгаков М. Собрание сочинений в 8 томах. Т.8. Жизнеописание в документах. Спб., 2002, сс. 75, 77, 79.
[24] Письмо Н. А. Булгакову от 13.5.1935 // Булгаков М. Дневник. Письма. 1914-1940. Сост. В. И. Лосев, М., 1997, с. 372.
[25] Письмо А. П. Гдешинскому от 28.12.1939 // Булгаков М. Дневник. Письма. 1914-1940. Сост. В. И. Лосев, М., 1997, с. 536.
[26] См.: Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 484.
[27] Цит. по: Соколов Б. Булгаков. Энциклопедия. М., 2003, с. 546.
[28] Николаю Афанасьевичу Булгакову специальную беседу посвятил архиепископ Сан- Францисский Иоанн (Шаховской) – «Реальная жизнь Николки Турбина – Н. А. Булгакова» (Републикация: Земская Е. А. Михаил Булгаков и его родные. Семейный портрет. М.. 2004, сс. 209-212.
[29] Письмо И. А. Булгакову от 12.5.1934 // Булгаков М. Дневник. Письма. 1914-1940. Сост. В. И. Лосев, М., 1997, с. 334. Ср. с признанием константинопольского патриарха Афинагора 1: «Мне не хотелось бы умереть внезапно. Нужно проболеть несколько недель, чтобы приготовиться. Не слишком долго, чтобы не обременять других. Вот смерть отправляется в дорогу за мной. Я вижу, как она спускается с холма, поднимается по лестнице, входит в коридор. Она стучится в дверь комнаты. И у меня нет страха, я жду ее. И я говорю ей: войди! Но не будем сразу трогаться с места. Ты – моя гостья, присядь на минуту. Я готов». И затем пусть она унесет меня в милосердие Божье» (Клеман О. Беседы с патриархом Афинагором. Брюссель, 1993, с. 229).
[30] Данте А. Малые произведения. М., 1968, с. 149.
[31] Булгаков М. Собрание сочинений в 8 томах. Т.8. Жизнеописание в документах. Спб., 2002, с. 714.
[32] «И опять померещилась ему чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду!»(Мастер и Маргарита, гл. 2).
[33] Булгаков М. Собрание сочинений в 8 томах. Т.8. Жизнеописание в документах. Спб., 2002, с. 691.
[34] Земская Е. А. Михаил Булгаков и его родные. Семейный портрет. М.. 2004, с. 192.
[35] Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 670.
[36] Булгаков М. Собрание сочинений в 8 томах. Т.8. Жизнеописание в документах. Спб., 2002, сс. 106-107.
[37] Деятели Союза Советских Социалистических Республик и Октябрьской Революции. Приложение к циклу статей Союз Советских Социалистических Республик // Энциклопедический словарь Русского Библиографического института Гранат. 7-е издание. Т.41. ч.1. М., 1926, стлб. 53-54
[38] см. Соколов Б. Булгаков. Энциклопедия. М., 2003, сс. 144-145.
[39] http://humanism.al.ru/ru/articles.phtml?num=000027
[40] http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/GINZBURG.HTM
[41] http://gazetangn.narod.ru/archive/ngn0309/god.html
[42] Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 406.
[43] См. Лосев В. Комментарии // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 508. (со ссылкой на И. Кузякину).
[44] Яновская Л. М. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983, с. 316.
[45] Мудрый епископ в романе Клиффорда Саймака говорит, что «Вера – весьма разумное основание для поступка» (Клиффорд Саймак. Паломничество в волшебство // Клиффорд Саймак. Паломничество в волшебство. Братство талисмана. М., 2002, с. 89).
[46] Ср.: «добрые люди изуродовали его»…
[47] Так в первой же редакции, называвшейся «Копыто инженера» (1928 г.). См. Копыто инженера (1929-1930) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 54.
[48] Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 395.
[49] Копыто инженера (1929-1930) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 54.
[50] Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 20. Симпатия Берлиоза к Воланду смягчена в окончательном тексте: «иностранец Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а… как бы выразиться… заинтересовал, что ли». В фильме В. Бортко именно в журнал Берлиоза и приносит свой роман Мастер. В этом случае, правда, непонятно, почему Берлиоз не узнал текст романа при зачитывании его Воландом. Но если и в самом деле Берлиоз и есть редактор издания, в которое Мастер отнес рукопись, а издание это носило гордое имя «Богоборец», то, значит, Мастер понимал, что созданное им произведение является воинственно-атеистическим, антихристианским.
[51] Чудакова М. О. Опыт реконструкции текста М.А. Булгакова // Памятники культуры. Новые открытия. М., 1977, с. 95.
[52] Чудакова М. О. Опыт реконструкции текста М.А. Булгакова // Памятники культуры. Новые открытия. М., 1977, с. 98.
[53] Копыто инженера (1929-1930) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 56-57.
[54] Лепахин В. Иконное и иконическое в романе «Мастер и Маргарита» // Вестник Русского Христианского Движения. Париж, 1991, № 1 (161), с. 178.
[55] В фельетоне Булгакова «Москва 20-х годов» есть следующая сцена: «В лето от рождества Христова… (в соседней комнате слышен комсомольский голос: «Не было его!!»). Ну, было или не было…».
[56] Булгаков следил за публикациями этого предельно разнузданного атеистического «мастера», кое-что вырезал из газет и даже собрал в небольшую специальную папку (см. Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с.386).
[57] Робертсон А. Происхождение христианства. М., 1956, с. 133.
[58] Краткое изложение Евангелия // Евангелие Толстого. Избранные религиозно-философские произведения Л. Н. Толстого. М., 1992, с. 11.
[59] Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 29.
[60] Эти чеканные слова произносит Король Артур (Шон О’Коннори) в фильме «Первый рыцарь».
[61] Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 35.
[62] Вторая редакция. Цит. по: Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 419.
[63] Копыто инженера (1929-1930) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 39.
[64] Оттого и пришлось Николаю Бурляеву, игравшему Иешуа как Иисуса, править булгаковский текст: «Кириллова:– Можно ли всерьез воспринимать слова Андрея Кураева, который считает, что в какой-то степени неверная трактовка романа может сделать его неким псевдо-Евангелием? Бурляев:
– Я думаю, что в этом есть доля истины. Все зависит от трактовки, потому что, если бы я не изменил антиевангельские моменты в тексте Иешуа Га-Ноцри, то все звучало бы по-иному. Я пытался приблизить, насколько мог, данные мне сцены к истине» (Радио России. Окно в кино. Новая экранизация «Мастера и Маргариты». 25.12.2005 http://www.radiorus.ru/news.html?rid=1104&date=22-12-2005&id=147596).
[65] Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 99.
[66] Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 99.
[67] Чудакова М. О. Опыт реконструкции текста М.А. Булгакова // Памятники культуры. Новые открытия. М., 1977, с. 96.
[68] Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 409.
[69] Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 408.
[70] св. Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Матфея. 41,3 // Творения. т. 7. ч.1. Спб., 1901, сс. 440-441.
[71] На заметку учителям: словосочетание «голову морочить» может иметь семинарское происхождение. Оно не от славянского «мрака», а от греческого «морос» – глупость. Семинаристы заставили греческое слово жить по законам русского глагола. «Ну, ты сморозил!» = «Ну и глупость ты сказал!».
[72] Русская литература ХХ века. 11 класс. Учебник. Под ред. В. В. Агеносова. Ч.1. М., 2002, с. 475.
[73] «Всякая религия состоит в том, что мы смотрим на Бога как на достойного всеобщего почитания законодателя всех наших обязанностей» (Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980, с. 173)
[74] Кант И. Собрание сочинений. Т. 4. М.,с. 523.
[75] «Копыто инженера» – название черновиков 1928 — 1929 гг..
[76] Чудакова М. О. Опыт реконструкции текста М.А. Булгакова // Памятники культуры. Новые открытия. М., 1977, с. 94.
[77] См. Ильин В. Н. Мастер и Маргарита [Рецензия] // Вестник РСХД. № 4, Париж, 1967; Белый Анат. О «Мастере и Маргарите» // Вестник РХД. №112-113. Париж, 1974; Е. М. Три сновидения Ивана // Вестник РХД. № 119, Париж, 1976; К. О главном герое романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Вестник РХД. № 146. Париж, 1986; Лепахин В. Иконное и иконическое в романе «Мастер и Маргарита» // Вестник РХД. № 161, Париж, 1991. Кроме того, исключительно положительное предисловие к парижскому изаднию романа в 1967 году написал архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской). Републикация: Метафизический реализм («Мастер и Маргарита») // архиеп. Иоанн Сан-Францисский. Избранное. Петрозаводск, 1992.
[78] см. Соколов Б. Булгаков. Энциклопедия. М., 2003, с. 31.
[79] см. Соколов Б. Булгаков. Энциклопедия. М., 2003, с. 324.
[80]Свящ. Андрей Дерягин. «Мастер и Маргарита»: опыт прочтения. http://www.wco.ru/biblio/books/ader1/Main.htm?mos
[81] См. Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с.484. Подробнее – на сс. 499-500.
[82] Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, сс. 511 и 539.
[83] Чудакова М. О. Памяти Елены Сергеевны Булгаковой. Архив М. А. Булгакова. Материалы для творческой биографии писателя // Записки Отдела рукописей Государственной Библиотеки им. В. И. Ленина. Вып.37, 1976, с. 111.
[84] См. свящ. Димитрий Юревич. Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря. Спб., 2004, с. 198.
[85] Еще одна часть романа о Пилате вводится как сон Ивана Бездомного. Но тут уж точно Мастер не при чем: в «Мастере и Маргарите» влыдыкой снов, то есть владыкой лунных ночей оказывается именно Воланд.
[86] «О, как я угадал! О, как я все угадал!», – говорит Мастер в больнице Ивану Бездомному после того, как тот пересказал ему воландовское повествование о Пилате.
[87] Копыто инженера (1929-1930) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 54.
[88] см. Жирмунский В. М. История легенды о Фаусте // Легенда о докторе Фаусте. М., 1978, с. 266). Научные, нелегендарные сведения о папе Сильвестре см.: Гайденко В. П. Герберт Аврилакский // Новая философская энциклопедия. т.1. с. 507; Жильсон Э. Философия в средние века. М., 2004, сс. 172-173; Шишков А. М. Средневековая интеллектуальная культура. М., 2003, сс. 44-53. В последнем издании читаем, что папа Сильвестр 2 считал себя последним папой – ибо ожидал в 1000 году завершения мировой истории (с. 46).
[89] Вспомним 100 000 рублей, «случайно» выигранных Мастером в лотерею – сумма, которая позволила ему уйти с советской работы и начать писать свой роман.
[90] свят. Иоанн Златоуст. Восемь слов на книгу Бытия. Слово второе. Творения. т.4, с. 15.
[91] преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Спб., 1894, с. 49.
[92] преп. Ефрем Сирин. Толкование на книгу Бытия. // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1901, ч. 6, с. 234.
[93] «Если есть стадо – есть и пастух. Если есть тело – должен быть дух», – почувствовал эту логику Виктор Цой.
[94] цит. по: Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии. Нью-Йорк, 1955, c. 233.
[95] преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Спб., 1894, с. 46.
[96] И это не случайность. «В редакции романа 1934-1936 годов глава с повествованием о событиях в клинике не только имела тот же тринадцатый номер (хотя количество глав было иным), но и название было более «инфернальное» — «Полночное явление»… Только визитер был другой — сатана Воланд (он же в первых редакциях романа — Мастер) собственной персоной, да еще с черным пуделем» (А. Барков. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: альтернативное прочтение. http://m-bulgakov.narod.ru/master-94-1.htm#b3-1). Напомню, что на балу у сатаны Маргарита получает «панагию» с изображением черного пуделя. О том, что Мефистофель является Фаусту в виде черного пуделя, напоминать, полагаю, излишне.
[97] «Я утратил бывшую у меня способность описывать что-нибудь», – признавался Мастер в черновиках булгаковского романа (Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 98).
[98] Цит. по: Фроянов И. Я. Начало христианства на Руси. Ижевск, 2003, с. 173.
[99] Peirat N. Histoire des Albigeois. Les Albigeois et l’inquisition. Paris. 1870, t. 2, p. 860.
[100] Галинская И. Ключи даны! Шифры Михаила Булгакова. Послесловие к «Мастеру и Маргарите» в издании «Молодая гвардия», 1989.
[101] Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 105.
[102] Копыто инженера (1929-1930) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 54.
[103] Некий литературовед М. С. Петровский пишет, что «ершалаимские главы в литературе принято именовать евангельскими» (Цит. по: Семенов А. Н., Семенова В. В. Русская литература ХХ века в вопросах и заданиях. 11 класс. Пособие для учителя. Ч.2. М., 2001, с. 76). Что ж, соответствующую литературу это характеризует соответствующим образом…
[104] Неприличие нынешних школьных учебников литературы обнажается простым сравнением: «Пораженный сильным чувством, возникшим между Мастером и Маргаритой, Воланд узнает и о том, что Мастер написал книгу об Иешуа Ганоцри. «Нет, право, – воскликнул пораженный дьявол, – это черед сюрпризов!» (Педчак Е. П. Литература. Русская литература ХХ века. Ростов-на-Дону, 2002, с. 220). Сравним этот учебник для ПТУ с оригиналом: «- О чем роман? – Роман о Понтии Пилате. – Тут опять закачались и запрыгали язычки свечей, задребезжала посуда на столе, Воланд рассмеялся громовым образом, но никого не испугал и смехом этим никого не удивил. – О чем, о чем? О ком? – заговорил Воланд, перестав смеяться. – Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы? Дайте-ка посмотреть». Непонятно, и откуда Педчак взял потрясенность Воланда любовью Мастера и Маргариты…
[105] Кстати, по современным меркам политкорректности «пилатовы главы» очень нецензурны. Ведь в них вина за распятие Иешуа возлагается на иудейский Синедрион. Пилат говорит иудейскому первосвященнику: «Вспомнишь ты тогда спасенного Вар-раввана и пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирною проповедью!». В такого рода сюжетных поворотах сегодня принято видеть проповедь антисемитизма – за что и досталось фильму Мэла Гибсона «Страсти Христовы». Так что нельзя исключить вероятности того, что скоро книга Булгакова вновь окажется под запретом. Интересно также, что редактор журнала «Богоборец» Берлиоз из всего воландова «евангелия» заинтересовался лишь одним эпизодом: «Скажите, пожалуйста, – неожиданно спросил Берлиоз, – значит, по-вашему, криков «распни его!» не было? Инженер снисходительно улыбнулся. Помилуйте! Желал бы я видеть, как какая-нибудь толпа могла вмешаться в суд, творимый прокуратором» (Копыто инженера (1929-1930) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 55). Оказывается, и в самом деле в редакции «Безбожника» «как в синагоге» – главная претензия к Евангелию связана с потребностью забыть тот выкрик иерусалимской толпы (Мк 13,15)…
Впрочем, тут начинается тема, которой мне не хотелось бы касаться: связь булгаковского антисемитизма (о литературной среде – «затхлая, советская, рабская рвань с густой примесью евреев» – запись в дневнике от 28 декабря 1924 г.; или: «Новый анекдот: будто по-китайски «еврей» — «там». Там-там-там-там (на мотив «Интернационала») означает «много евреев» (Запись от 9 августа 1924 г.), «пилатовых глав» и иудейского Талмуда.
По мнению антихристиански настроенных булгаковедов, Булгаков «вывел из Талмуда образ Христа, более отвечающий современным христианским идеалам, чем канонический» (Зеркалов А. Евангелие Михаила Булгакова. М., 2002, с. 181). Где г. Зеркалов нашел «современные христианские идеалы» (в их отличии от изначальных), из какого материала он их состряпал – это даже неинтересно спрашивать. Но если и в самом деле Иешуа из романа Мастера есть талмудический Иешу – то, значит, Воланд, по Булгакову, был куратором не только атеистов, но и талмудических раввинов…
[106] Впрочем, несколько экземпляров остаются ждать своего часа у литературных критиков, которым они была розданы.
[107] Чтобы не было сомнений в том, кто подсунул Мастеру облигацию, во второй полной рукописной редакции романа (1938 год) эта облигация еще и начинается с цифры 13. См. Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 100.
[108] Чудакова М. О. Опыт реконструкции текста М.А. Булгакова // Памятники культуры. Новые открытия. М., 1977, с. 96.
[109] «Когда отравленные затихли, Азазелло начал действовать. Первым делом он бросился в окно и через несколько мгновений был в особняке, в котором жила Маргарита Николаевна. Азазелло видел, как мрачная, ожидающая возвращения мужа женщина вышла из своей спальни, внезапно побледнела, схватилась за сердце и, крикнув беспомощно: – Наташа! Кто-нибудь… ко мне! – упала на пол в гостиной, не дойдя до кабинета».
[110] Почему из всех евангелистов выбран только один и именно Левий Матвей? Этот выбор как раз показывает, что перед нами не историческая «реконструкция». Библейская критика ко времени написания Булгаковым романа уже единодушно считала, что первым евангелистом был все же Марк, и другие синоптические Евангелия (в том числе и Евангелие от Матвея) опирались на него. Цекровная же традиция полагает, что первым евангелистом был все же Матфей. Поскольку Воланд ведет войну с церковными христианами, а не с учеными, поэтому в его антиевангелии должен быть пародирован именно Матфей.
[111] Главы, дописанные и переписанные в 1934-1936 гг. // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 260.
[112] Совет Коровьева об обращении с призраками на балу у сатаны: «Все, что угодно, но только не невнимание. От этого они захиреют…». Совершенно то же говорили духи Рерихам: «Духи нуждаются в признании» (Агни-Йога. Откровение. 1920-1941, М., 2002, с. 23).
[113] Давид-Ноэль А. Мистики и маги Тибета. — М., 1991, с. 183.
[114] Цит. по: Доддс Э. Р. Греки и иррациональное. Спб., 2000, с. 425.
[115] «В городе фригийской области Мире правителем был в то время Амахий. Он приказал отворить тамошнее капище, вынести из него накопившиеся от времени нечистоты и тщательно возобновить находившиеся в нем статуи. Это сильно огорчило тамошних христиан. Некто Македоний, Феодул и Тациан, по ревности к христианской вере, не перенесли сей скорби. Воодушевляемые пламенной любовью к добродетели, они ночью пробрались в капище и сокрушили все статуи. Сильно разгневанный этим происшествием, правитель хотел предать смерти многих невинных жителей города, поэтому виновники поступка выдали себя и решились лучше самим умереть за истину, нежели допустить, чтобы за них умерли другие. Правитель взял их и повелел им сделанное преступление очистить жертвоприношением; если же не исполнят, угрожал наказанием. Но они решились лучше умереть, нежели осквернить себя принесением жертвы. Тогда правитель приказал наконец положить их на железные решетки, подложить под них огонь и таким образом замучить. Они же и при этом показали величайшее мужество, говоря правителю: «Если ты, Амахий, хочешь попробовать жареного мяса, то повороти нас на другой бок, чтобы для твоего вкуса мы не показались полуизжаренными». Так окончили они свою жизнь» (Сократ Схоластик. Церковная история. 3, 15).
[116] Давид-Ноэль А. Мистики и маги Тибета. с. 197.
[117] Великий канцлер (1932-1936) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 207.
[118] «А вам скажу, – улыбнувшись, обратился он к мастеру, – что ваш роман еще принесет вам сюрпризы» (гл. 24).
[119] Булгаков М. Дневник. Письма. 1914-1940. Сост. В. И. Лосев, М., 1997, с. 251.
[120] Также в «Беге» генерал Хлудов мучается памятью об убитом по его приказу вестовом Крапилине: «Ты достаточно измучил меня, но наступило просветление. Да, просветление. Пойми, я согласен. Но ведь нельзя же забыть, что ты не один возле меня. Есть живые, повисли на моих ногах и тоже требуют. А? Судьба с той ночи завязала их в один узел со мной. Мы выбросились вместе через звенящие мглы, и их теперь не отделить от меня. Я с этим примирился. Одно мне непонятно. Ты? Как ты отделился один от длинной цепи лун и фонарей? Как ты ушел от вечного покоя? Ведь ты был не один. О нет, вас много было! (Бормочет.) Ну, помяни, помяни, помяни, господи… а мы не будем вспоминать. (Думает, стареет, поникает.) На чем мы остановились? Да, итак, все это я сделал зря. (Думает.) А потом что было? Потом – просто мгла, и мы благополучно ушли. А потом зной, и все вертятся карусели каждый день, каждый день. Но ты, ловец, в какую даль проник за мной и вот меня поймал в мешок, как в невод? Не мучь же более меня! Пойми, что я решился. Клянусь. Вот… Хлудов последнюю пулю пускает себе в голову и падает ничком у стола. Темно. Конец».
[121] Стоит, правда, учесть, что последний абзац 32-й главы (про «исколотую память Мастера») Булгаков зачеркнул весной 1939 года, когда дописал Эпилог. Тем не менее, этот абзац публикуют вновь и вновь «по традиции».
[122] Письмо П. С. Попову от 14 апреля 1932 г. // Булгаков М. Дневник. Письма. 1914-1940. Сост. В. И. Лосев, М., 1997, с. 268.
[123] Сам фельетон мог бы быть просто смешным (он построен по популярному принципу «испорченного радиоприемника» – одна вполне серьезная программа налагается на другую не менее серьезную – а в итоге получается смешной абсурд). Вот только редакционная (т.е. не-Булгаковская) приписка в конце фельетона требует ликвидации православного храма, якобы мешающего вести уроки в соседней школе…
[124] Яблоков Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова. М.. 2001, сс. 158-159.
[125] Бабинский М. Б. Изучение романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» в XI классе. М., 1992, с. 14.
[126] Н. П. Утехин. цит. по: Семенов А. Н., Семенова В. В. Русская литература ХХ века в вопросах и заданиях. 11 класс. Пособие для учителя. Ч.2. М., 2001, с. 82.
[127] Русская литература ХХ века. ч.1. Учебник-практикум для общеобразовательных учреждений. Под ред. Ю. И. Лыссого. М., 2003, с. 312.
[128] Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Рига, 1937, Т. 1, с. 510.
[129] Письма Елены Рерих 1929-1938. Минск, 1992, т. 2, сс. 341-342. По сути это цитата из Блаватской. Правда, у создательницы «Сокровенного учения» (оно же — «Тайная Доктрина») была важная деталь, умолчанная в письме Рерих: перед фразой «действие противоположений производит гармонию» у Блаватской стоит «доброта перестала бы быть таковой, если бы не сменялась своей противоположностью» (Блаватская Е. П. Разоблаченная Изида. М., 1994, Т. 2, с. 570).
[130] Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2, с. 269.
[131] Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2, с. 294.
[132] Библиотека литературы Древней Руси. т.1. Спб., 1997, с. 461.
[133] преп. Симеон Новый Богослов. Творения. Т.3. Сергиев Посад, 1917, с. 193.
[134] преп. Макарий Египетский. Духовные беседы. М., 1880, с. 92.
[135] «Своеобразной особенностью христианской морали является представлять нравственно-доброе отличающимся от нравственно-злого не по аналогии неба и земли, но неба и ада. Это представление, хотя оно и претит своей картинностью, тем не менее по своему смыслу вполне правильно. – А именно оно служит предостережением, чтобы добро и зло, царство света и царство тьмы не мыслились как граничащие друг с другом и через ступени (большей или меньшей святости) постепенно сливающиеся воедино, а представлялись отделенными друг от друга неизмеримой пропастью… Опасность, связанная с воображением о близком родстве свойств оправдывает и этот способ представления (имеется в виду картина ада как царства зла – А.К.) который, при всех содержащихся в нем ужасах, все же весьма возвышен» (Кант И. Религия в пределах только разума // Трактаты и письма. М., 1980, с. 128).
[136] Заболев, Гераклит «лег на солнце, а рабам велел обмазать его навозом… Он не смог очиститься от навоза и сделался добычей собак, которые в этом виде его не узнали» (Диоген Лаэртский. 9,1,4).
[137] «От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом. Идущие о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотят о чем-то договориться» (Эпилог).
[138] Пер. Б. Пастернака.
[139] Грамота митрополита Кирилла 2 // Русская Историческая библиотека. Т.6. Памятники древнерусского канонического права (11-15 века). Ч. 1. Спб, 1908, с. 102.
[140] преп. Феодор Студит. Послания. Ч.2. М., 2003, с. 185.
[141] Левий Матвей не в счет: он не христианин и не евангелист, а персонаж романа Мастера.
[142] «Мудрому достаточно».
[143] Главы, дописанные и переписанные в 1934-1936 гг. // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 245. См. также: Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 420.
[144] Черный маг (1928-1929) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, сс. 23-24.
[145] Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 510.
[146] Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988, с. 397.
[147] см. Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 43.
[148] см. Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 52.
[149] Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 52.
[150] Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 47.
[151] Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 48.
[152] Копыто инженера (1929-1930) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 69.
[153] Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 54.
[154] Князь тьмы // Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 69.
[155] Русская литература ХХ века. 11 класс. Учебник. Под ред. В. В. Агеносова. Ч.1. М., 2002, сс. 473 и 476.
[156] Педчак Е. П. Литература. Русская литература ХХ века. Роство-на-Дону, 2002, с. 221.
[157] Первый вариант первой редакции. Цит. по: Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 421.
[158] Там же.
[159] Чудакова М. О. Опыт реконструкции текста М. А. Булгакова // Памятники культуры. Новые открытия. М., 1977, с. 98.
[160] «- Лишь только вы начали его описывать, – продолжал гость, – я уже стал догадываться, с кем вы вчера имели удовольствие беседовать. И, право, я удивляюсь Берлиозу! Ну вы, конечно, человек девственный, – тут гость опять извинился, – но тот, сколько я о нем слышал, все-таки хоть что-то читал! Первые же речи этого профессора рассеяли всякие мои сомнения. Его нельзя не узнать, мой друг! Впрочем, вы… вы меня опять-таки извините, ведь, я не ошибаюсь, вы человек невежественный?
— Бесспорно, – согласился неузнаваемый Иван».
[161] Вполне характерный мемуар о тех годах – причем речь идет о первой в СССР защите докторской диссертации по философии: «На философский факультет снова был открыт прием в 1938 г… Я присутствовал на защите докторской диссертации Г. Ф. Александровым в мае 1939 г. Диссертация была посвящена философии Аристотеля в целом (деревянно-догматическое, обильно оцитаченное «классиками», ее содержание было опубликовано в 1940 г.). Из оппонентов помню импульсивную, хотя в принципе справедливую критику оппонента Д. Ю. Квитко: диссертационно исследовать философию Аристотеля в целом невозможно, следовало бы взять какой-то ее аспект. Прдедседатель совета Б. М. Волин, старый большевик, «разъяснил», что диссертант вполне обоснованно защищает диссертацию по всей философии Аристотеля. Успешность защиты была предопределена положением автора – работника ЦК и Коминтерна. Через несколько дней в «Правде» появилась и заметка, информировавшая, как бывшие беспризорники вырастают в нашей исключительной жизни в докторов наук… Античную философию на факультете читал М. А. Дынник. Сократа он изображал врагом народа (афинского), а Платона – канальей» (Соколов В. В. Некоторые эпизоды предвоенной и послевоенной философской жизни (из воспоминаний) // Вопросы философии. 2001, № 1. с. 71).
[162] см. А. Барков. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: альтернативное прочтение. http://m-bulgakov.narod.ru/master-94-1.htm#b3-1.
[163] «Брат спрашивал авву Пимена: я сделал великий грех и хочу каяться три года. – Много, – говорит ему Пимен. – Или хотя один год, – говорил брат. – И то много, – сказал опять старец. Бывшие у старца спросили: не довольно ли 40 дней? – И это много, – сказал старец. Если человек покается от всего сердца, и более уже не будет грешить, то и в три дня примет его Бог» (Древний Патерик. М., 1899, с. 170).
[164] В тот вечер Мариэтта Омаровна высказала и еще более поразительную мысль: мол. Мастер – это второе пришествие Иешуа, которого никто не узнал и после ухода которого из Москвы та становится пуста…
[165] В опере Шарля Гуно «Фауст», когда умирает детоубийца Маргарита, Мефистофель говорит: «Осуждена!», а хор ангелов настаивает: «Спасена!». В русском переводе это различие реплик стерто и мефистофелевское «Juge’e!» уравнено с ангельским «Sauve’!». И дальше хор ангелов во французском оригинале поет «Христос Воскрес!», а в русском переводе – «Есть правда в небесах!», хотя Маргарита помилована не по «правде», а по милости. Христианство – это путь любви, которая выше закона. У Гете эти акценты проставлены ясно: «Мефистофель: Она осуждена на муки! Голос свыше: Спасена!».
[166] Полнолуние начинается вечером того дня, когда Воланд появился в Москве: «Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо была видна в высоте полная луна» (гл. 3).
[167] «Это была та самая Аннушка, что в среду разлила, на горе Берлиоза, подсолнечное масло у вертушки» (гл. 24).
[168] «Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат».
[169] Из 97,5 млн. ответивших более 55 млн. (56,7%) заявили о своей вере в Бога. См. Фирсов Л. Сталинский конкордат. Со дня знаменитой встречи вождя с православными иерархами прошло 60 лет // НГ-религии. 2003, 3 сент. Подробнее: Казьмина О.Е. Вопрос о религиозной принадлежности в переписях населения России и СССР // Этнографическое обозрение. 1997. № 5.
[170] Черный маг (1928-1929) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 31.
[171] В редакции 1934-36 годов священник-обновленец появляется еще во сне Никанора Ивановича Босого и требует сдавать валюту (Главы, дописанные и переписанные в 1934-1936 гг. // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 252).
[172] В фильме Бортко икона как раз более чем узнаваема – это лик св. Николая Чудотворца. Так что и здесь режиссер разошелся с текстом романа.
[173] Интересно, что и описание Киева («Киев-город») Булгаков тоже начинает с храма – с Выдубицкого монастыря.
[174] См. Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 434.
[175] Впрочем, разные детали романа дают разные годы. Упоминание о троллейбусах, появившихся в Москве только в 1934 году, уточняет, ранее какого времени действие романа датироваться не может. С другой стороны, за датировку действия более ранним 1932-м годом говорит то, что в кабинете 60-летнего профессора Кузьмина висит на стене фотография, изображающая «полный университетский выпуск 94-го года». «Если предположить, что герой окончил университет в возрасте 22 лет, то получается: он родился в 1872 г. и основное действие романа приурочено к 1932 году» (Ишимбаева Г. Г. Русская фаустиана ХХ века. М., 2002, с. 124).
[176] Один из вариантов названия романа — «Он явился» (подразумевался Воланд).
[177] В ранней редакции Иван в больнице «пророчески грозно сказал: – Ну, пусть погибает Красная столица, я в лето от Рождества Христова 1943-е все сделал, чтобы спасти ее! Но… но победил ты меня, сын погибели, и заточили меня, спасителя… И глаза его стали мутны, но неземной красоты» (Вторая полная рукописная редакция романа 1938 // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 75). Интересно, что три детали роднят Ивана Бездомного с Иудой: Булгаков дает им одинаковый возраст (23 года), их обоих называют мальчиками. И оба они становятся удивительно красивы и одухотворены в минуту смерти или забытья.
[178] «Я – мистический писатель» – Правительству СССР. Письмо от 28 марта 1930 г. // Булгаков М. Дневник. Письма. 1914-1940. Сост. В. И. Лосев, М., 1997, с. 226.
[179] Цит. по: Ильин В. Н. Мастер и Маргарита [Рецензия] // Вестник РСХД. Париж, 1967, № 4, с. 85.
[180] «Тут в государственной библиотеке громадный отдел старой книги, магии и демонологии» (Великий Канцлер (1928-1929) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 90).
[181] Соколов Б. Булгаков. Энциклопедия. М., 2003, с. 342.
[182] Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 416.
[183] «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец» (Откр. 21, 22-23).
[184] См. Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 286.
[185] Я получил свое «седьмое доказательство». 24 марта 2004 на лекции, которую я читал в Ухте (город в республике Коми) разгорелась дискуссия, точку в которой довелось поставить, однако, не мне. Не вполне трезвый мужчина начал настаивать на том, что «сатана – это неудача Бога». Вышло, мол, нечто отнюдь не предучтенное Творцом…Громкий и самоуверенный, он, держа руки в карманах, обличал Бога. Умолкнет минут на десять – и снова настаивает на своем любимом тезисе. И вдруг, когда центр разговора переместился в другую точку зала, раздался хрип и стук: мужчина упал, тяжело дыша. Через несколько минут он скончался. Присутствовавший в зале врач-реаниматолог оказался бессилен. Более того, в официальном медицинском заключении о смерти после вскрытия тела было сказано: «Показаний к смерти не обнаружено».
Бог ли прекратил нарастание богохульств или сатана взял свою добычу – в любом случае кончина 61-летнего Виктора оказалась печальной. Осталось добавить, что лекция была по булгаковскому роману «Мастер и Маргарита». Булгаков сам писал, что этот роман – о дьяволе. О нем преимущественно и шла речь на лекции. Два обморока и одна смерть обнажили духовное состояние светской аудитории, преимущественно состоявшей из учителей городских школ.
[186] Это Фаусту Мефистофель представляется столь пышно. Самого же себя он, как только Фауст уснул, величает иначе: «Царь крыс, лягушек и мышей, Клопов, и мух, и жаб, и вшей». Дело в том, что один из вариантов перевода библейского прозвища сатаны – «Веельзевул» – звучит как «Повелитель мух» (см. статью Веельзевул в 7 томе «Православной энциклопедии»).
[187] Уж о том, что жизнь и жизнь в теле – не одно и то же, в «Мастере и Маргарите» говорится достаточно ярко: «- Ах! Оскорбление является обычной наградой за хорошую работу, – ответил Азазелло, – неужели вы слепы? Но прозрейте же скорей. Тут мастер поднялся, огляделся взором живым и светлым… – А, понимаю, – сказал мастер, озираясь, – вы нас убили, мы мертвы. Ах, как это умно! Как это вовремя! Теперь я понял все. – Ах, помилуйте, – ответил Азазелло, – вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером, ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно! – Я понял все, что вы говорили, – вскричал мастер, – не продолжайте! Вы тысячу раз правы» (гл. 30).
[188] Об этой мании устраивать публично-театральные «суды» над всем «буржуазным наследием» Булгаков писал в очерке «Сорок сороков»: «Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые заграничные фильмы, возвещают «Суд над проституткой Заборовой, заразившей красноармейца сифилисом», десятки диспутов, лекций, концертов. Судят «Санина», судят «Яму» Куприна, судят «Отца Сергия», играют без дирижера Вагнера, ставят «Землю дыбом» с военными прожекторами и автомобилями»…
[189] «- Проклинаю тебя, бог! Осипшим голосом он кричал о том, что убедился в несправедливости бога и верить ему более не намерен. – Ты глух! – рычал Левий, – если б ты не был глухим, ты услышал бы меня и убил его тут же. Зажмурившись, Левий ждал огня, который упадет на него с неба и поразит его самого. Этого не случилось, и, не разжимая век, Левий продолжал выкрикивать язвительные и обидные речи небу. Он кричал о полном своем разочаровании и о том, что существуют другие боги и религии. Да, другой бог не допустил бы того, никогда не допустил бы, чтобы человек, подобный Иешуа, был сжигаем солнцем на столбе. – Я ошибался! – кричал совсем охрипший Левий, – ты бог зла! Или твои глаза совсем закрыл дым из курильниц храма, а уши твои перестали что-либо слышать, кроме трубных звуков священников? Ты не всемогущий бог. Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа!» (гл. 16).
[190] Ишимбаева Г. Г. Русская фаустиана ХХ века. М., 2002, с. 106.
[191] Великий канцлер (1932-1936) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 197.
[192] Великий канцлер (1932-1936) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 195.
[193] Великий канцлер (1932-1936) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 192.
[194] Великий канцлер (1932-1936) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 187.
[195] «Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл!».
[196] Во второй полной рукописной редакции романа (1938 год) Коровьев так говорит о Фриде: «Она мрачная, неврастеничка. Обожает балы, носится с бредовой идеей, что мессир ее увидит, насчет платка ему что-то рассказать… На суде плакала, говорила, что кормить нечем ребенка. Ничего не понимает» (Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 205).
[197] «- Повторяется история с Фридой? – сказал Воланд, – но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно, на этом построен мир».
[198] В Библии Бог допрашивает сатану: «И сказал Господь сатане: откуда ты пришел?» (Иов 1,7). В романе сатана допрашивает Мастера: «- Ну вот, это другое дело, – сказал Воланд, прищуриваясь, – теперь поговорим. Кто вы такой? – Я теперь никто, – ответил мастер, и улыбка искривила его рот. – Откуда вы сейчас? – Из дома скорби. Я – душевнобольной, – ответил пришелец».
[199] О том, что у Достоевского физической хромоте неизменно сопутствует духовная порча, см.: Сараскина Л. «Бесы»: Роман-предупреждение. М., 1990, сс. 133-137.
[200] Странно, что многие критики романа говорят о «преображении» Воланда в финале. На самом деле у Булгакова такого слова нет. Нет у него и описания «настоящего обличья Воланда». Лишь три черты он отмечает в этом «настоящем» обличьи: горит один глаз, конь под ним – глыба мрака, и сам Воланд – «черный». Так что «преображенный» Воланд никак не становится более симпатичным, чем в своем московском облике.
[201] Дунаев М. М. О романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». М., 2005, с. 23.
[202] Похулить Бога и умереть – это как раз то, что пробует сделать Левий Матвей на Голгофе.
[203] Так же и в романе Мастера: «работу адову» делают люди, поэтому присутствие Воланда в романе неочевидно. Разве что однажды «усталому прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле… Допустив малодушие – пошевелив плащ, прокуратор оставил его и забегал по балкону» (гл. 26). Ср.: «Дело в том… – тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом, – что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата…» (гл.3).
[204] Для более точного понимания «Фауста» лучше работать не с пастернаковским переводом, а с переводом А. Мейера, при этом учитывая его замечательные размышления о гетевской поэме (Мейер А.А. Размышления при чтении «Фауста» // Мейер А.А. Философские размышления. Paris, 1982).
[205] Не будем забывать, что в годы работы над романом Булгаков писал еще и пьесу «Батум» – героем которой был семинарист, отрекшийся от Бога. Это была пьеса о Сталине. Легкая тень чернокнижия была допущена Булгаковым в его рассказе о юности советского бога: оказывается, в день своего исключения из семинарии Сталин обратился к цыганке: «Очень хорошо гадала. Все, оказывается, исполнится. Как я и думал. Решительно сбудется все. Путешествовать, говорит, будешь много. А в конце даже комплимент сказала – большой ты будешь человек!» (Булгаков М. А. Батум // Собрание сочинений в 8 томах. Т.7. Блаженство: пьесы и инсценировки 20-30-х годов. Спб., 2002, с. 309).
[206] Сегодня обычный человек-немузыковед может послушать этот фокстрот в начальных кадрах фильма «Кинг-Конг» (2005).
[207] Бал у Воланда – не просто «общественно-культурное мероприятие». Это ритуал. В опере Гуно «Фауст» аналогичный бал в Вальпургиеву ночь совершается с моленьями к «древним богам» (так в оригинале; в русском переводе – «всем богам»).
[208] См. Лосев В. И. Комментарии // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 507.
[209] Булгаков этого не застал, но именно по этой формуле складывалась последующая судьба Храма Христа Спасителя: вместо «куба воздуха» – яма с теплой водичкой («бассейн Москва»), любимое место московских педерастов… Как говорило московское церковное присловье: «Сначала был Храм, потом – хлам и, наконец, – срам». «В том нет уже даже безбожья — Ленивый развал бытия» (Наум Коржавин).
[210] Музыка, пародирующая богослужение, была и в «Фаусте» Берлиоза. Там лейпцигские пьянчужки распевают реквием по погибшему мышонку. Реквием очень понравился Мефистофелю…
[211] Проблеск оптимизма есть в описании сеанса черной маги в варьете. Когда конферансье отрезали голову, произошло неожиданное – люди вспомнили о Боге. «- Ради Бога, не мучьте его! – вдруг, покрывая гам, прозвучал из ложи женский голос, и маг повернул в сторону этого голоса лицо. – Так что же, граждане, простить его, что ли? – спросил Фагот, обращаясь к залу. – Простить! Простить! – раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в один хор с мужскими. – Как прикажете, мессир? – спросил Фагот у замаскированного. – Ну что же, – задумчиво отозвался тот, – они – люди как люди. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их… – и громко приказал: – Наденьте голову». Как не нравится нечисти любое упоминание о Боге, видно из следующего диалога: «Молю: скажите только одно, он жив? Не мучьте. – Ну, жив, жив, – неохотно отозвался Азазелло. – Боже! – Пожалуйста, без волнений и вскрикиваний, – нахмурясь, сказал Азазелло. – Простите, простите, – бормотала покорная теперь Маргарита» (гл. 19). В редакции 1934-36 годов крик в варьете звучал еще яснее – «Ради Христа, не мучьте его!… Что же, все в порядке, – тихо, сквозь зубы, проговорил замаскированный» (Главы, дописанные и переписанные в 1934-1936 гг. // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 232).
[212] «Никто не сделал попытки отбивать осужденных ни в самом Ершалаиме, наводненном войсками, ни здесь, на оцепленном холме, и толпа вернулась в город, ибо, действительно, ровно ничего интересного не было в этой казни, а там в городе уже шли приготовления к наступающему вечером великому празднику пасхи».
[213] Великий канцлер (1932-1936) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 206.
[214] Великий канцлер (1932-1936) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с.197.
[215] Великий канцлер (1932-1936) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 200.
[216] И тем не мене булгаковеды пишут, что «во всех приключениях Маргариты ее сопровождает любящий взгляд автора, в котором и нежная ласка и гордость за нее» (В. Г. Боборыкин. Цит. по: Русская литература ХХ века. ч.1. Учебник-практикум для общеобразовательных учреждений. Под ред. Ю. И. Лыссого. М., 2003, с. 317).
[217] Великий канцлер (1932-1936) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, сс. 161 и 167. В окончательном варианте: ««Э, какое месиво! – сердито подумала Маргарита, – тут повернуться нельзя»«.
[218] Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 195.
[219] Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 191.
[220] Неизвестный Булгаков. М., 1993, с 427.
[221] Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 171.
[222] В более раннем варианте намек на гомосексуальность был связан с Воландом: «Не торопитесь, милейший… Посидите со мной… И он сделал попытку обнять Иванушку за талию. – Да ну вас, ей-богу, нетерпеливо отозвался Иванушка и даже локоть выставил, спасаясь от назойливой ласки инженера» (Копыто инженера (1929-1930) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 58)
[223] Великий канцлер (1932-1936) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, сс. 170-171.
[224] Вторая полная рукописная редакция романа (1938 год) См. Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 275.
[225] «Маргарита – Муза Мастера» ((Русская литература ХХ века. 11 класс. Учебник. Под ред. В. В. Агеносова. Ч.1. М., 2002, с. 477).
[226] «Пилат летел к концу, к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут: «…пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат». Ну, натурально, я выходил гулять… Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы..».
[227] «Вагнер (Тихо.) Дух затаите молчаливо: Приходит к завершенью славный труд. Мефистофель (еще тише) А чем же занимаетесь вы тут? Вагнер (шепотом) Созданьем человека. Мефистофель А скажите, Какую же влюбленную чету Запрятали вы в колбы тесноту? Вагнер О боже! Прежнее детей прижитье Для нас – нелепость, сданная в архив».
[228] «Встреча Мастера и Маргариты в переулке, где не было ни души, что Булгаков подчеркивает особо, произошла днем в центре Москвы рядом с многолюдной Тверской… На Патриарших в сцене знакомства писателей с дьяволом тоже не было ни души — там «безлюдность» была явно подстроена шайкой Воланда. Можно ли расценить эту бросающуюся в глаза параллель иначе, чем указание на то, что встреча Мастера с Маргаритой была подстроена Воландом?» (А. Барков. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: альтернативное прочтение. http://m-bulgakov.narod.ru/master-94-1.htm#b3-1). Стоит также заметить, что в опере «Фауст» Мефистофель одурманивает голову Маргариты, заставляя ее влюбиться в Фауста именно через цветы. Мефистофель околдовывает цветы (повелевает им «проклятой рукой»), чтобы они, в свою очередь заколдовали Маргариту: «А вы, цветы, своим душистым тонким ядом должны весь воздух отравить и впиться Маргарите в сердце». Потом на этих зачарованных цветах Маргарита будет гадать о том, любит ли ее Фауст… Возможно, такие же заговоренные цветы-приманку несет и булгаковская Маргарита (только роли перевернуты: тут уже Маргарита охотится на Мастером). Во всяком случае буквально следующее слово, которое стоит за словом «цветы» в тексте романа – «черт». Канон фаустианы предполагает возникновение именно колдовской любви. Так, в опере Берлиоза Мефистофель всевает в сердце Фауста страсть к Маргарите: «Скорей сюда, духи страстей, баюкайте его, навевайте сны, где бы царила любовь!».
[229] Ишимбаева Г. Г. Русская фаустиана ХХ века. М., 2002, с. 94.
[230] «Для Мастера любовь – всего лишь условие «комфорта», но отнюдь не смысл жизни. И для Маргариты ее любовь к Мастеру при всей романтической экзальтации – тоже всего лишь «компенсация» иной, подлинной, но неудавшейся жизни. Словом, каким бы соловьем ни заливался «правдивый Повествователь» насчет «настоящей, верной, вечной любви» – и тут все в романе не разрешено. И никакая мазь Азазелло и всемогущество Воланда тут не помогут» (Акимов В. М. Свет художника, или Михаил Булгаков против дьяволиады. М., 1995, с. 115).
[231] Неизвестный Булгаков. М., 1993, сс. 227-228.
[232] Письмо П. С. Попову от 28.4.1934 // Булгаков М. Дневник. Письма. 1914-1940. Сост. В. И. Лосев, М., 1997, с. 327.
[233] Письмо Е. С. Булгаковой от 7.8.1937 г. // Булгаков М. Дневник. Письма. 1914-1940. Сост. В. И. Лосев, М., 1997, с. 497.
[234] Булгаков М. Дневник. Письма. 1914-1940. Сост. В. И. Лосев, М., 1997, с. 498.
[235] священник Андрей Дерягин. Опыт прочтения: «Мастер и Маргарита». http://www.wco.ru/biblio/books/ader1/Main.htm?mos
[236] Боборыкин В. Г. Цит. по: Русская литература ХХ века. ч.1. Учебник-практикум для общеобразовательных учреждений. Под ред. Ю. И. Лыссого. М., 2003, с. 318.
[237] Письмо И. В. Сталину, 1931 г. // Булгаков М. Дневник. Письма. 1914-1940. Сост. В. И. Лосев, М., 1997, с. 241. Письмо не было дописано и отправлено.
[238] «- Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже, – в первый раз моляще обратился Левий к Воланду. – Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Уходи».
[239] Дунаев М. М. О романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». М., 2005, с. 42.
[240] Виновен Мастер и в глазах своих созданий – мрачного Левия и Иешуа: он их создал и сжег, лишив их подпитки энергией читателей.
[241] Неизвестный Булгаков. М., 1993, с. 408.
[242] Главы, дописанные и переписанные в 1934-1936 гг. // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, сс. 260-261.
[243] Старый гомункул Вагнера погиб, когда его реторта разбилась о трон Галатеи.
[244] Тут стоит вспомнить, что само словосочетание «собачье сердце» на Руси было известно давно, думаю, со времен Опричнины – у Малюты и его воинства оприч головы собачьей у седла, в груди бились лютые собачьи сердца. Отсюда и пошло в народе присловье: «с солью, с перцем, с собачьим сердцем». Так что швондеры и шариковы как новые опричники вполне понятны. В литературе же ХХ века эта идиома была возрождена Сергеем Есениным. «Слушай, поганое сердце, сердце собачье мое. Я на тебя как на вора, спрятал в рукав лезвиё… Нет, не могу я стремиться в вечную сгнившую даль. Пусть поглупее болтают, что их загрызла мета: Если и есть что на свете – это одна пустота». Есенинское «я» обзывает собачьим свое сердце как раз за то, что оно еще стремится, не дает покоя, еще дает поводы для веры и требует ее. У Булгакова, наоборот, «собачьими» оказываются сердца безбожных нигилистов, живущих по принципу «ничего не было!»… А на стих Есенина тут же ответил Блок (ответил – буквально, вручив Есенину свой стих и сказав, ответом на что именно он является). –
Жизнь без начала и конца
Нас всех подстерегает случай.
Над нами сумрак неминучий,
Иль ясность Божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай…
Твой взгляд – да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
[245] Черный маг (1928-1929) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 35.
[246] Черновые наброски 1929-1931// Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с. 78.
[247] Записки на манжетах (из автобиографической прозы). Воспоминание // Булгаков М. А. Чаша жизни. М., 1988, сс. 258-259.
[248] Имя Воланд может прочитываться как намек на имя Владимир. Первый слог в этих именах фонетически схож, а второй схож по смыслу: ланд–земля-мир. Воланд как «князь мира сего», «владыка мира», Владимир. Не стоит забывать, что те советские годы – это годы торжестве сокращений и аббревиатур. Среди новоязных «комсомолов» и прочих «массолитов» были и Владлен и Вилен.
[249] Великий канцлер (1932-1936) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с.178.
[250] Свят. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Т. 1. М., 1993, с. 236.
[251] «Ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже неинтересные и ненужные ни Маргарите, ни мастеру, чужие огоньки» (гл. 32).
[252] Интересно, что Фауст заранее отверг подобный дар Мефистофеля: «Что можешь ты пообещать, бедняга?.. И дерево такой породы спорой, Что круглый год день вянет, день цветет».
[253] «Если» тут необходимо: ведь об этих возможных встречах Мастеру говорит Маргарита, а не «распорядитель судеб» Воланд.
[254] Вообще-то за 1900 лет от 30-х годов первого века до 30-х годов ХХ века должно было пройти не менее 24 000 лун (точнее – 24 700, если учесть, что лунный месяц короче солнечного, а потому в году не 12 полнолуний, а 13). Эта очевидная неточность – тормоз на пути отождествления Пилата романа с Пилатом Евангелий, а евангельской истории с историей, рассказанной Воландом.
[255] «Мне нужен отдых, долгий отдых, Гэндальф. Я ведь, говорил тебе раньше… Я вряд ли вернусь… да что там! Я ведь и не собираюсь возвращаться. Вот, все уже приготовил. Я старый. Да, знаю, по мне не скажешь, но вот внутри… – Бильбо помолчал. – «Хорошо сохранившийся!» – фыркнул он. – Вовсе нет. Во мне все как-то тает, словно натягивается что-то, если ты понимаешь, о чем я. Ну, как будто кусок масла размазывают по слишком большому куску хлеба. Это же неправильно, да?.. Тот, кто владеет одним из Великих Колец, не умирает. Правда, и не живет тоже. Он просто продолжается до тех пор, пока не устанет от ноши времени. А если он еще и часто прибегает к Кольцу, для невидимости там, или для чего другого, – участь его еще горше. Он словно истачивается о время, бледнеет, выцветает, пока не сходит на нет, пока не исчезает для этого мира навсегда, и потом он вечно обречен бродить в нездешнем сумраке под всегдашним взором темной силы, которой подвластны кольца. Так неизбежно случится, дело только во времени. Если обладатель Кольца крепок духом и чист в помыслах – позже, прочих случаях – раньше, но темная сила неминуемо подчинит его себе. – Ужас какой – вырвалось у Фродо» (Толкин Дж. Р.Р. Братство Кольца. Спб., 1992, сс. 44 и 61).
[256] См. Великий канцлер (1932-1936) // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000, с.192.
[257] Яновская Л. М. Треугольник Воланда: к истории романа «Мастер и Маргарита». Киев, 1992, с. 51.
[258] Гаспаров Б. М. Из наблюдений мотивной структурой романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» // Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы ХХ века. М., 1994, с. 68. Аналогично мнение Г. Ишимбаевой: «Эскиз вечного счастья, набрасываемый дьяволом, подозрительно смахивает на идеал филистерского самодовольного и самодостаточного существования «гармонического пошляка» (Ф. Шлегель). Привкус иронии, ощутимый в определении «романтический» и в словосочетании «засаленный колпак», становится нестерпимо едким, когда Воланд упоминает о круге друзей: у Мастера их нет, единственный человек, которого он считал таковым – предатель Алоизий Могарыч» (Ишимбаева Г. Г. Русская фаустиана ХХ века. М., 2002, сс. 95-96).
[259] А были ли в Москве начала 20-х годов какие-то другие музеи, кроме Музея Революции, созданного в 1924-м? Так что не так уж и аполитичен Мастер. Советская идеология ему доверяла.
[260] Известия 13 октября 2002 http://www.izvestia.ru/capital/article25111
[261] Известия 19 декабря 2002 http://main.izvestia.ru/community/article27925
[262] В театральном и киношном мире известно немало попыток постановки булгаковского романа и еще больше рассказов о неудачах, которые преследовали участников этих проектов. Например, актер Виктор Авилов о болезни, которая стала для него смертельной (он скончался в конце августа 2004 года) сказал, что накликал на себя беду, играя на сцене Воланда. http://www.newsru.com/cinema/25aug2004/avilov.html Впрочем, было и другое: «Народный артист России Виктор Авилов тяжело болен и проходит лечение в новосибирском Академгородке. У Авилова рак печени в четвертой стадии. Обычно люди с таким диагнозом живут всего несколько месяцев. Несколько дней Авилов провел на обезболивающих под наблюдением врачей. После этого он решил поехать в Новосибирск, чтобы начать лечение «магнитной пушкой» Геннадия Маркова, которого официальная медицина считает шарлатаном».
[263] Першин М. «Мастер и Маргарита»: Господь глазами «очевидца» // Альфа и Омега. М., 1999, № 4 (22). Со ссылкой на булгаковеда В.И. Лосева
[264] «И взгляд их ужасом объят. Понятна их тревога. Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад: Они хоронят Бога» («На Страстной»).
[265] Пример плохой и завиральной журналистики – рецензия «Московских новостей» на первое издание этой моей книги». Приведу ее полностью:
«Самая свежая книга о. Андрея посвящена роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» – этому «евангелию советской интеллигенции». Кстати, интеллигенция – предмет его постоянной «любви-ненависти». Ее судьба, ее «путь к храму» страшно беспокоят отца диакона, но вместе с тем ее гордыня, ее брезгливое отношение к «вере простого народа» и генетическое стремление ко всякому оккультизму его страшно раздражают. Своей «богословской критикой» романа о. Андрей как раз и бросает очередной вызов родному сословию – интеллигенции. Книгка «Мастер и Маргарита»: за Христа или против» (Издательский совет РПЦ) начинается с предельно понятного любому литературоведческого анализа. Вот окончательная версия романа, которой многие зачитывались в юности, а вот черновики, о которых мы и не слыхивали. Вот о. Андрей, постоянно сравнивающий одно и другое, выявляет христианскую сущность черновиков и сатанинскую – окончательной версии. Такой вот немудреный в общем-то метод. Но как интеллектуал с большой буквы о. Андрей постоянно отвлекается во всяческие лирические отступления. И здесь начинается шоу – как назвал бы его сам о. Андрей, «шоу Инквизитора». А какое любимое занятие у инквизитора? Правильно: жечь и вешать.
В предисловии о. Андрей решительно заявляет: «пилатовы главы» романа настолько кощунственны, что их даже нет смысла анализировать. Однако по мере «погружения в тему» он срывается и с особым азартом начинает комментировать именно эти «пилатовы главы». В инквизиторском запале о. Андрей восклицает: «В этом романе оправдан Пилат. Оправдан Левий, срывающийся в бунт против Бога… Оправдан даже Иуда, кровью своей искупивший свое предательство… Следующим амнистированным распинателем становится сатана». Нужны еще доказательства сатанизма романа?
Не обходит о. Андрей стороной и проблему «русского народа-богоносца». Рассуждая о том, что в булгаковской Москве не находится места главному национальному символу – храму Христа Спасителя, диакон заключает: «Сквозняк, образовавшийся в возникшей от этого пустоте, и затянул в Москву «знатного иностранца». Да, тот, кто был «иностранцем» для «святой Руси», теперь является как полновластный хозяин». Ну-ка, дети, скажите, кто был главным «иностранцем» для «святой Руси»?» (Солдатов А. Небесная музыка. Исполняется не впервые // Московские новости. 2005, № 5).
Что ж, о книге, смысл которой – защитить роман Булгакова от обвинения в сатанизме, написать рецензию как о книге, обвиняющей булгаковский роман в сатанизме, это высший пилотаж бессовестно-черного пиара. Не менее изящно поступил Солдатов, когда процитировал мое интервью 1999 года, но при этом уверил, будто эти слова я сказал «после Беслана» (т.е. в 2004-м).
Если учесть, что когда-то юного Сашу Солдатова я знакомил с жизнью Семинарии, в 1991 году помогал ему поступить во впервые созданную группу церковной журналистики журфака МГУ, а затем дал ему первые знакомства в редакции «Московских новостей», то его готовность писать обо мне перевиральные фельетоны печально характеризует не только его собственную эволюцию, но и ту секту, с которой он связал свою жизнь.
[266] Кант И. Критика чистого разума. // Сочинения. Т. 3. М., 1964, с. 489.
[267] Кант И. Критика чистого разума. // Сочинения. Т. 3. М., 1964, с. 492
[268] «Каузальность через свободу» (Кант И. Критика способности суждения, 87. // Кант И. Сочинения. Т. 5. М., 1966, с. 484).
[269] Кант И. Трактаты и письма. М.,1980, с. 112.
[270] Кант И. Критика чистого разума, с. 487-488.
[271] Кант И. Критика чистого разума, с. 481.
[272] Соловьев В. С. Эмпирическая необходимость и трансцендентальная свобода по Шопенгауэру и Канту. // Собрание сочинений. Т. 7. Спб., 1903, с. 601.
[273] Архиеп. Антоний (Храповицкий). Сочинения. Т. 3. Казань, 1909, с. 111
[274] Кант И. Критика чистого разума, с. 480.
[275] Кант И. Критика практического разума // Собрание сочинений. Т. 4.
Ч. 1. М., 1965, с. 457.
[276] Там же, с. 458.
[277] Введенский А. И. Условие позволительности веры в смысл жизни // Введенский А. И. Статьи по философии. Спб., 1996, с. 45.
[278] Кант И. Критика способности суждения, 87. // Кант И. Сочинения. Т. 5. М., 1966, с. 486
[279] В первой серии фильма Бортко не дал Воланду сказать фразу: «Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство, и уж самое надежное! И вам оно сейчас будет предъявлено». С другой стороны, в сценари В. Бортко есть изменение относительно булгаковского текста: Воланд вместо «Имейте в виду, что Иисус существовал», в фильме говорит «Христос существовал». А это как раз неверно: с точки зрения сатаны Иисус не есть Христос.