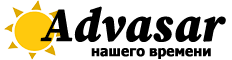Нижеследующий материал представляет собой дайджест, по-русски говоря, выжимку из отдельных глав монографии «Происхождение украинского сепаратизма», написанной известным русским историком, философом и писателем «второго поколения» русской эмиграции Николаем Ивановичем Ульяновым (1904 — 1985). Книга вышл в Нью-Йорке в 1966 году, и в СССР ее можно было прочесть лишь в спецхране и то если читатель мог доказать, что она по теме его научной работы. Даже научным работникам в советской стране неположено было много знать даже и об украинском сепаратизме. Тем более из книги русского эмигранта, который откровенно заявлял о неприятии советского строя, не признавал с ним никаких компромиссов. Такой же откровенный, бескомпромиссный разговор ведет Николай Ульянов и об украинском самостийничестве, которому, дает резко негативную оценку. Дпя советского читателя, приученого официальной пропогандой, воспринимать украинский сепаратизм преимущественно в картинках петлюровских и бандеровских зверств, многое у Ульянова может показаться необычным, даже субъективным, дискуссионным. Это касается, например, авторских оценок творчества и общественно-политических взглядов Тараса Шевченко, который представлен, не революционером-демократом, каким мы привыкли его считать, а певцом давно, ушедшего века казатчины и гетманщины.
Нет нужды как-либо дискутировать с Николаем Ульяновым. Русский читатель сумеет оценить и аргументы и разоблачительный пафос книги. И особенно сейчас, когда украинские сепаратисты вновь выступают с реакционно-утопической, антирусской по сути, программой, цели которой нельзя тостичь без гражданской войны, и когда становится все более очевидным, что так называемая советская общественная наука в вопросе русско-украинских взаимоотношений сплошь и рядом стояла на позициях иделогов самостийничества, а «перестроечная» пропаганда перешла на эти позиции почти полностью. Если большевики были заинтересованы в раздроблении русского народа, потому что он казался им (в частности, Ленину) слишком большим, мешающим их планам, то орден архитекторов перестройки стремиться к расчленению созданного русским народом государства по той причине, что оно не влазит в Европу, не в состоянии уместиться на том стульчике, который назначил ему Запад в системе нового мирового порядка.
Константин ЛАСКОВЫЙ
Особенность украинского самостийничества в том, что оно ни под какие из существующих учений о национальных движениях но педходит и никахими «железными» законами не объяснимо. Даже национального угнетения, как первого и самого наобходимого оправданий для своего возникновения, у него нет. Единственный образец «угнетения» — указы 1863 и 1876 годов, ограничивавшие свободу печати на новом, искуственно создававшемся литературном языке не воспринимались населением как национальное преследование. Не только простой народ, не имевший касатальства к созданию этого языка, но и девяносто девять процентев просвещеного малороссийского общества состояло из противников его легализации. Только ничтожная кучка интеллигентов, не выражавшая никогда чаяний большинства народа, сделала его своим политическим знаменем. За все триста лет пребывания в составе Российского государства Малороссия-Украина не была ни колонией, ни «порабощенной народностью».
Когда-то считалось само собой разумеющимся, что национальная сущность народа лучше всего выражается той партией, что стоит во главе националистического движения. Ныне украинское самостийничество дает образец величайшей ненависти ко всем наиболее чтимым и наиболее древним традициям и культурным ценностям малороссийского народа: оно подвергло гонению церковнославянский язык, утвердившийся на Руси со времен принятия христианства, и еще более жестокое гонение воздвигнуто на общерусский литературный язык, лежащий в течение тысячи лет в основе письменности всех частей Киевского государства во время и после его существования. Самостийники меняют культурно-историческую терминологию, маняют традиционные оценки героев к событиям прошлого. Все это означает не понимание и не утверждения, а искоренение национальной души. Истинно национальное чувство приносится в жертву сочиненному партийному национализму.
Схема развития всякого сепаратизма такова: сначала, якобы, пробуждается «национальное чувство», потом оно растет и крепнет, пока не приводит к мысли об отделении от прежнего государства и создании нового. На Украине этот цикл совершился в обратном направлании. Там сначала обнаружилось стремление к отделению и лишь потом стала создаваться идейная основа как оправдание такого стремления.
В заглавии настоящей работы, на случайно употреблено слово «сепаратизм» вместо «национализм». Именно национальной базы не хватало украинскому самостийничеству во все времена. Оно всегда выглядело движением ненародным, ненациональным, вследствие чего страдало комплексом неполноценности… Для украинских самостийников главной заботой все еще остается доказать отличие украинца от русского. Сепаратистская мысль до сих пор работает над созданием антропологических, этнографических и лингвистических теорий, долженствующих лишить русских и украинцев какой бы то ни было степени родства между собой. Сначала их объявили «двумя русскими народностями», потом — двум разными славянскими народами, а позже возникли теории, по которым славянское происхождение оставлено только за украинцами, русские же отнесены к монголам, к туркам, к азиатам. Ю. Щербакивскому и Ф. Вовку доподлинно стало известно, что русские представляют собой потомков людей ледникового периода, родственных лопарям, самоедам и вогулам, тогда как украинцы — представители переднеазийской круглоголовой расы, пришедшей из-за Черного моря и осевшей на местах освобожденных русскими, ушедшими на север вслед за отступающим ледником и мамонтом. Высказано предположение, усматривающее в украинцах остаток населения утонувшей Атлантиды.
Лихорадочное культурное обособление от России не может не бросаться в глаза и не зарождать подозрения в искусственности национальной доктрины.
В русской, особенно эмигрантской, литературе существует давнишняя тенденция объяснить украинский национализм исключительно воздействием внешних сил… С недавних пор историки обратили внимание на поляков, приписывая им главную роль в создании автономистского движения. Поляки в самом деле по праву могут считаться отцами украинской доктрины. Они достигли того, что малороссийские националисты, несмотря на застарелые антипатии к Польше, сделались усердными их учениками. Польский национализм стал образцом для самого мелочного подражания вплоть до того, что сочиненный П. П. Чубинским гимн «Ще не вмерла Україна» был неприкрытым подражанием польскому «Еще Польска не сгинела». Но вряд ли будет правильно объяснить украинский сепаратизм одним только влиянием поляков. Поляки могли питать и взращивать эмбрион сепаратизма, самый же эмбрион существовал в недрах украинского общества. Обнаружить и проследить его превращение в видное политическое явление — задача настоящей работы.
Запорожское казачество
Истоки украинского самостийничества невозможно понять без обстоятельного экскурса в прошлое днепровского (запорожского) казачества. Далеко не все понимают роль этого казачества в создании украинской националистической идеологии. Происходит это в значительной степени из-за неверного представления о его природе. Обычно, как только речь заходит о запорожском казаке, встает неотразимый образ Тараса Бульбы и надобно глубокое погружение в документальный материал, в исторические источники, чтобы освободиться от волшебства гоголевской романтики.
На запорожское казачество с давних пор установилось два прямо противоположных взгляда. Одни усматривают в нем явление дворянско-аристократическое — «лыцарское». Другие считают, что казачество воплощало чаяния плебейских масс и было живым носителем идеи народовластия с его началами всеобщего равенства, выборности должностей и абсолютной свободы.
Несостоятельность первой точки зрения вряд ли нуждается в доказательстве. Она попросту выдумана и никакими источниками не подтверждается. Мы не знаем ни одного проверенного документа, свидетельствовавшего о раннем запорожском казачестве как о самобытной военной организации малороссийской шляхты. Простая логика отрицает эту версию. Будь казаки шляхтичами с незапамятных времен, зачем бы им было в XVII и XVIII веках добиваться шляхетского звания? Еще труднее сравнивать Запорожскую сечь с рыцарским орденом. Ордена были порождением общественно-политической и религиозной жизни Европы, тогда как казачество рекрутировалось из элементов, вытесненных организованным обществом государств европейского востока. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические факты. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого — главы ислама. С крымскими же татарами, этими «врагами креста Христова», казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украйны. Сравнивать сечевую старшину с капитулом, а кошевого атамана с магистром ордена — величайшая пародия на европейское средневековье. Да и по внешнему виду казак походил на рыцаря столько же, сколько питомец любой восточной орды. Тут имеются в виду не столько баранья шапка, оселедец и широкие шаровары, сколько всякое отсутствие шаровар. Французский военный эксперт Дальрак, сопровождавший Яна Собесского в знаменитом походе под Вену, упоминает о «дикой милиции» казацкой, поразившей его своим невзрачным видом.
Что касается легенды демократической, то она — плод усилий русско-украинских поэтов, публицистов, историков XIX века, таких как Рылеев, Герцен, Чернышевский, Шевченко, Костомаров, Антонович, Драгоманов, Мордовцев. Воспитанные на западноевропейских демократических идеалах, она хотели видеть в казачестве простой народ, ушедший на «низ» от панской неволи и унесший туда свои вековечные начала и традиции. Эта точка зрения живет до сих пор в СССР. Костомаров казацкое устройство противопоставлял аристократическому строю Польши к самодержавному укладу Москвы.
Приблизительно так же смотрел на Запорожскую сечь М.П. Драгоманов. В казачьем быту он видел общинное начало и даже склонен был называть сечь «коммуной». Драгоманов полагал, что Запорожье «самый строй таборами заимствовал от чешских таборитов, которым ходил помогать наши волынцы и подоляне XV века». Одной из прямых задач участников украинофильского движения Драгоманова считал обязанность «отыскивать в разных местах и классах населения Украины воспоминания о прежней свободе и равноправности». Он включил это а качестве особого пункта а «Опыт украинской политико-социальной программы», выпущенной им в 1884 году в Женеве. Программа требует от поборников украинской идеи всемерно их пропагандировать и подводить их к теперешним понятиям о свободе и равенстве у образованных народов».
Это вполне объясняет широкое распространение подобного взгляда на запорожское казачество, особенно среди «прогрессивной» интеллигенции. Без всякой проверки и критики он был принят всем русским революционным движением. В наши дни он нашел выражение в тезисах ЦК КПСС по случаю трехсотлетия воссоединения Украины с Россией.
Объективное изучение запорожского казачества разрушило как аристократическую, так и демократическую легенды. Сам Костомаров по мере углубления в источники значительно изменил свой взгляд, а П. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Обращение к нему и по сей день обязательно для всякого, кто хочет понять истинную сущность казачества.
Демократия в наш век расценивается не по формальным признакам, а по ее общественно-культурной и моральной ценности. Равенством и выборность должностей в общине, живущей грабежом и разбоем, никого не восхищает. Не считаем мы также достаточным для демократического строя одного только участия народа в решении общих дел и выборности должностей. Ни древняя, античная, ни новейшая демократия не мыслили этих начал вне строгой государственной организации и твердой власти. Господства толпы никто сейчас с понятием народовластия не сближает. А запорожским казакам именно государственного начала и недоставало. Они воспитаны были в духе отрицания государства. Казаки не только гетманский престиж ни во что не ставили, но и самих гетманов убивали с легким сердцем и были в любую минуту готовы к «розносу» гетманских пожитков. Кошевых атаманов и старшину поднимали на щит или свергали по капризу, либо под пьяную руку, не предъявляя даже обвинений. На необычайное засилье самовольной толпы жалуются все гетманы. Казачество, по словам Мазепы, «никогда никакой власти и начальства над собой иметь не хочет». Казачья «демократия» была на самом деле охлократией.
Захватив Малороссию, казаки превратили ее как бы в огромное Запорожье, подчинили весь край своей дикой системе управления. Отсюда частые перевороты, свержение гетманов, интриги, подкопы, борьба друг с другом многочисленных группировок, измены, предательства и невероятный политический хаос, царивший всю вторую половину XVII века. Не создав своего государства, казаки явились самым неуживчивым элементом и в тех государствах, с которыми связывала их историческая судьба.
Объяснение природы казачества надо искать в «диком поле», среди тюрко-монгольских орд. Запорожское казачество давно поставлено в прямую генетическую связь с хищными печенегами, половцами и татарами, бушевавшими в южных степях на протяжении чуть не всей русской истории. Осевшие в Приднепровье и известные чаще всего под именем черных клобуков, они со временем христианизировались, русифицировались и положили начало, по мнению Костомарова, южнорусскому казачеству. Истинной школой днепровской вольницы стала татарская степь, давшая ей все — от воинских приемов, лексикона, внешнего вида (усы, чуб, шаровар) до обычаев, нравов и всего стиля поведения.
Прославленные морские походы в туретчину выглядят совсем не патриотическим и не благочестивым делом. Сами украинофилы прошлого века знали, что казаки «разбивали по Черному морю христианское купецтво заодно с бусурманским, а дома разоряли руськие свои города татарским робом». Если татары своих единоверцев и единоплеменников не брали и не продавали в рабство, то для запорожских «лыцарей» подобных тонкостей не существовало.
Школа Запорожья была не рыцарская и не трудовая крестьянская. Правда, много крепостных мужиков бежало туда и много было поборников идеи освобождения селянства от крепостного права. Но принесенные извне, эти идеи замирали в Запорожьи и подменялись другими. Именно поэтому в казачество шли не одни простолюдины, но и шляхта, подчас из очень знатных родов. Насколько возвышенными были их цели и устремления видно из случая со знаменитым Самуилом Заборовским. Отправляясь в Запорожье, он мечтал о походе с казаками на московские пределы, но, явившись в сечь и ознакомившись с обстановкой, меняет намерение и предлагает поход в Молдавию. Когда же татары приходят с дружеским предложением идти совместно грабить Персию, он охотно соглашается и на это. Речь Посполитая старалась приручить запорожскую вольницу и с этой целью ввела в середине XVI века так называемый «реестр» — список тех казаков, что польское правительство приняло к себе на службу для охраны окраинных земель от татарских набегов. Поставив эту избранную группу в привилегированное положение, польское правительство наложило запрет на всякое другое казакование, видя в нем развитие вредного, гулящего, антиправительственного элемента.
Советским историкам это дает материал для бесконечных рассуждений о «расслоении», об «антагонизме». Но антагонизм существовал не в казачьей среде, а между казаками и хлопами. В Запорожьи, как и в самой Речи Посполитой, хлопов презрительно называли «чернью». Реестровая реформа не только не встречена враждебно на низу, но окрылила все степное гультяйство. Попасть в реестр и быть причисленным к «лыцарству» стало мечтой каждого запорожского молодца. Реестр явился не разлагающим, а скорей объединяющим началом и сыграл видную роль в развитии «самосознания».
Вчерашняя разбойная вольница, сделавшись королевским войском, призванным оберегать окраины Речи Посполитой, возгорелась мечтой о некоем почетном месте в панской республике. Зародилась та идеология, которая сыграла потом столь важную роль в истории Малороссии. Она заключалась в сближении понятия «казак» с понятием «шляхтич». Сколь смешной ни выглядела эта претензия в глазах тогдашнего польского общества, казаки упорно держались ее. Свои вожделения реестровое войско начало выражать в петициях и обращениях к королю и сейму. На конвокационном сейме 1632 года его представители заявили: «Мы убеждены, что дождемся когда-нибудь того счастливого времени, когда получим исправление наших прав рыцарских, и ревностно просим, чтобы сейм изволил доложить королю, чтобы нам были дарованы те вольности, которые принадлежат людям рыцарским».
К середине XVII века казачья аристократия по материальному достатку не уступала мелкому и среднему дворянству. Отлично понимая важность образования для дворянской карьеры, она обучает своих детей панским премудростям. Меньше чем через сто лет после введения реестра среди казацкой старшины можно было встретить людей употреблявших латынь в разговоре. Степной выходец, печенег готов вот-вот появиться в светской гостиной. Ему не хватит только шляхетских прав. Но тут и начинается драма, обращающая ни во что ни латынь, и богатство, и земли. Польское панство, замкнувшись в своем кастовом высокомерии, слышать не хотело о казачьих претензиях. Не помогают ни лояльность, ни верная служба. При таком положении многие начали подумывать о приобретении шляхетства вооруженной рукой.
Украинская националистическая и советская марксистская историографии до того затуманили и замутили картину казачьих бунтов конца XVII и первой половины XVII века, что простому читателю трудно бывает понять их подлинный смысл. Меньше всего подходят они под категорию «национально — освободительных» движений. Национальной украинской идеи в то время в помине не, было. Но и «антифеодальными» их можно назвать лиши в той степени, в какой принимали в них участие крестьяне, бежавшие на низ в поисках избавления от нестерпимой крепостной неволи.
Уже в самых ранних казачьих восстаниях наблюдается стремление напустить набежавших за пороги мужиков на замки магнатов. Казаки добивались не уничтожения крепостного порядка, а старались правдами и неправдами втереться в феодальное сословие. Не о свободе шла тут речь, а о привилегиях. То был союз крестьянства со своими потенциальными поработителями, которым удалось с течением времени прибрать его к рукам, заступив место польских панов.
Конечно, запорожцам предстояло рано или поздно либо быть раздавленными польской государственностью, либо примириться с положением особого воинского сословия, наподобие позднейших донцов, черноморцев, терцев, если бы не грандиозное всенародное восстание 1648 года, открывшей казачеству возможности, о которых оно могло лишь мечтать. «Мне удалось совершить то, о чем я никогда и не мыслил» — признавался впоследствии Хмельницкий.
Здесь не место давать подробный рассказ о восстании Хмельницкого, оно описано во многих трудах и монографиях. Наша цель — обратить внимание на нерв событий, ясный для современников, но необычайно затемненный историками XIX — XX веков. Это важно как для того, чтобы понять причину присоединения Украины к Московскому государству, так и для того, чтобы понять, почему на другой же день после присоединения там началось «сепаратистское» движение.
Москва, как известно, не горела особенным желанием присоединить к себе Украину. Это важно иметь в виду, когда читаешь жалобы самостийнических историков на «лихих соседей», не позволивших будто бы учредиться независимой Украине в 1648 — 1654 годах. Ни один из этих соседей — Москва, Крым, Турция — не имели на нее видов и никаких препятствий ее независимости не собирались чинить. Что же касается Польши, то после одержанных над нею блестящих побед, ей можно было продиктовать любые условия. Не в соседях было дело, а в самой Украину. Там попросту не существовало в те дни идеи «незалежности». Казачья аристократия не думала ни о независимости, ни об отделении от Польши. Ее усилия направлялись как раз на то, чтобы удержать Украину под Польшей, а крестьян под панами любой ценой. Себе самой она мечтала получить панство, какового некоторые добились уже в 1649 году после Зборовского мира. Но в народной толще было стихийное тяготение к Москве. Измученный изменами, изверившийся в своих вождях народ усматривал единственный выход в московском подданстве. Многие, не дожидаясь политического решения вопроса, снимались целыми селами и двигались в московские пределы. За каких-нибудь полгода выросла Харьковщина — пустынная прежде область, заселенная теперь сплошь переселенцами из польского государства.
Это сбило планы и расстроило всю игру казаков. Противостоять ему открыто они не в силах были. Стало ясно, что народ пойдет на что угодно, лишь бы не остаться под Польшей. Надо было либо удерживать его по-прежнему в составе Речи Посполитой и сделаться его откровенным врагом, либо решиться на рискованный маневр — последовать за ним в другое государство и, пользуясь обстоятельствами, постараться удержать над ним свое господство. Избрали последнее.
Произошло это не без внутренней борьбы. Часть матерых казаков во главе с Богуном откровенно высказались на Тарнопольской раде 1653 года против Москвы, но большая часть, видя, как «чернь» разразилась восторженными криками при упоминании о «царе восточном», приняла сторону хитрого Богдана. Насчет истинных симпатий Хмельницкого и его окружения двух мнений быть не может — это были полонофилы. В московское подданство шли с величайшей неохотой и страхом. Пугала неизвестность казачьих судеб при новой власти. Захочет ли Москва держать казачество как особое сословие, не воспользуется ли стихийной приязнью к себе южнорусского народа и не произведет ли всеобщего уравнения в правах, не делая разницы между казаком и вчерашним хлопом? Свидетельством такого тревожного настроения явилась идея крымского и турецкого подданства, сделавшаяся вдруг популярной среди старшины в самый момент переговоров с Москвой.
Турецкий проект — свидетельство смятения казачьих душ, но вряд ли кто из его авторов серьезно верил в возможность его осуществления по причине одиозности для народа турецко — татарского имени, а также потому, что народ уже сделал свой выбор. Роман Ракушка-Романовский, известный под именем Самовидца, описывая в своей летописи переяславское присоединение, с особым старанием подчеркнул его всенародный характер: «По усией Украине увесь народ с охотой тое учинил».
Не будем здесь вдавиться в рассмотрение самостийнической легенды о так называемой «переяславской конституции», о «переяславском договоре». Она давно разоблачена. Всякого рода препирательства на этот счет могут сколько угодно тянуться в газетных статьях и памфлетах -для науки этот вопрос ясен. Источники не сохранили ни малейшего указания на документ похожий хоть в какой-то степени на «договор». В Переяславле в 1654 году происходило не заключение трактата между двумя странами, а безоговорочная присяга малороссийского народа и казачества царю московскому, своему новому суверену.
Считалось само собою разумеющимся, что после присяги и прочих формальностей, связанных с присоединением Малороссии, московские воеводы должны заступить место польских воевод и урядников. Так думал простой народ, так говорили казаки и старшина, Выговский и Хмельницкий. Но московское правительство до самой смерти Хмельницкого не удосужилось этого сделать. Все его внимание и силы устремлялись на войну с Польшей, возгоревшуюся из-за Малороссии. В течение трех лет Москва воздерживалась от реализации своих прав.
Когда правительство в 1657 году решительно подняло вопрос о введении воевод и взимании налогов, Хмельницкий отказался от собственных слов в Переяславле и от речей своих, посланных Москве. Смерть Богдана помешала разгореться острому конфликту, но он вспыхнул при преемнике Хмельницкого Иване Выговском, начавшем длинную цепь гетманских измен и клятвопреступлений. В его лице старшина встала на путь открытого противодействия введению царской администрации и тем самым на путь нарушения суверенных прав Москвы.
Измена Выговского раскрыла московскому правительству глаза на страшный антагонизм между казачеством и крестьянством. Начали в Москве понимать также, что десятки тысяч казаков только называются казаками, а на самом деле — те же крестьяне, которых матерые казаки и притесняют, как мужиков. Во всех петициях, предъявленных старшиною московскому правительству после измены Выговского, неизменно значится пункт о недопущении «черни» к разрешению войсковых дел. Борьба с нею приняла столь острый характер, что уже с конца шестидесятых годов XVII века полковники начинают заводить себе «компании» — наемные отряды помимо тех казаков, над которыми начальствовали, и как раз для удержания в повиновении этих самых казаков. Гетманы точно так же создают при себе гвардию, составленную чаще всего из иноземцев. Еще при Хмельницком состояло З тыс. татар, правобережные гетманы нанимали поляков, а Мазепа выпросил у московского правительства стрельцов для охраны своей особи, так что один иностранный наблюдатель заметил: «Гетман стрельцами крепок. Без них хохлы давно бы его уходили. Да стрельцов боятся».
Бунт демократической части казачества против «значных» укрепил Москву в сознании необходимости внимательнее прислушиваться к голосу низового населения и по возможности ограждать его от хищных поползновений старшины. Это отнюдь не выражалось в потакании «черни», в натравливании ее на «значных», как утверждает Грушевский. Будучи государством помещечьим, монархическим, пережившим в XVII веке ряд страшных бунтов и народных волнений, Москва боялась играть таким огнем, от которого сама могла сгореть. Знаменитая украинская исследовательница и патриотка А.Я. Ефименко, которую трудно заподозрить в симпатии к самодержавию, писала: «Как союз Малороссии с Россией возник в силу тяготения к нему массы, так и дальнейшая политика русского правительства, вплоть до второй половины XVIII столетий, имела демократический характер, не доп>
Transfer interrupted!
правленной а интересах привилегированного сословий против непривилегированного.
Кончилось, однако, тем, что «привилегированным» удалось восторжествовать и над этой политикой, и над непривилегированным населением Украины. Соблюдая все дарованные ею права и вольности, но постоянно терпя нарушение своих собственных прав, Москва вынуждена была в сущности капитулировать перед половецкой ордой, зубами и когтями вцепившейся в ниспосланную ей судьбой добычу.
Уже в XVIII веке малороссийские помещики оказываются гораздо богаче великорусских как землями, так и деньгами. Когда у Пушкина читаем: «Богат и славен Кочубей, его поля необозримы» — это не поэтический вымысел. Только абсолютно бездарные, ни на что не способные урядники не скопили себе богатств. Все остальные быстро пошли в гору. Мечтая издавна о шляхетстве и стараясь всячески походить на него, казаки лишены были характерной шляхетской брезгливости к ростовщичеству, к торговле, ко всем видам мелкой наживы. Особенно крупный доход приносили мельницы и винокурни. Все они оказываются в руках старшины. Но главным источником обогащения служил, конечно, уряд. Злоупотребление властью, взяточничество, вымогательство и казнокрадство лежат в основе образования всех крупных частных богатств на Украине.
Величайшими стяжателями были гетманы. Нежинский протопоп Симеон Адамович писал про гетмана Брюховецкого, что тот «безмерно побрал на себя во всей северской стране дани великие медовые, и винного котла у мужиков по рублю, а с казака по полтине, и с священников (чего и при польской власти не бывало) с котла по полтине; с казаков и с мужиков поровну от сохи по две гривны с лошади и с вола по две же гривны, с мельницы по пяти и по шести рублев же брал, а, кроме того, от колеса по червоному золотому, а на ярмарках, чего никогда не бывало, с малороссиян и с великороссиян брал с воза по десять алтын и по две гривны; если не верите, велите допросить путивльцев, севчан и рылян…». Сохранилось много жалоб на хищничество гетмана Самойловича. Но всех превзошел Мазепа. Он еще за время своей службы при Дорошенко и Самойловиче скопил столько, что смог, согласно молве, проложить золотом путь к булаве. А за то время, что владел этой булавой, — собрал несметные богатства. Часть из них хранилась в Киево-Печерском монастыре, другая в Белой Церкви и после бегства Мазепы в Турцию досталась царю. Но с собой Мазепа успел захватить такие богатства, что имел возможность в изгнании дать взаймы 240000 талеров Карлу XII, а после смерти гетмана при нем найдено было 100 000 червонцев, не считая серебреной утвари и всяких драгоценностей. Петру, как известно, очень хотелось добиться выдачи Мазепы, для каковой цели он готов был пожертвовать крупными суммами на подкуп турецких властей, но гетман оказался богаче и перекупил турок на свою сторону.
Сам собой возникает вопрос, почему царское правительство допустило такое закабаление Малороссии кучкой «своевольников», почему не вмешалось и не пресекло хозяйничанья самочинно установившегося, никем не уполномоченного, никем не избранного казачьего уряда? Ответ прост: в правление Алексея Михайловича Московское царство, не успевшее еще оправиться от последствий смуты, было очень слабо в военном и экономическом отношении. Поэтому и не хотело принимать долгое время в свой состав Малой России. Приняв ее, обрекло себя на изнурительную тринадцатилетнюю войну с Польшей. Удерживать при таких обстоятельствах обширный, многолюдный край с помощью простой военной не было никакой возможности. Только с ее же собственной помощью можно было удержать Малороссию — завоевать ее симпатии или по крайней мере лояльность. Казачье буйство само по себе ничего страшного не представляло, с ним легко было справиться. Опасным делала его близость Польши и Крыма. Каждый раз, когда казаки приводили татар или поляков, москвичи терпели неудачу. Так было под Конотопом, так было под Чудновым. Казаки знали, что они страшны возможностью своего сотрудничества с внешними врагами, и играли на этом.
Надо было уступать их прихотям, не раздражать без особой нужды, смотреть сквозь пальцы на многие проступки и строго следить за соблюдением дарованных им прав. Все первые пятьдесят лет после Присоединения Малороссии представляются старательным приручением степного зверя. Многие государственные люди в Москве теряли терпение в этой игре и приходили к мысли отказаться от Украины. Таков был знаменитый А. Л. Ордин-Нащокин, вершитель внешней политики при Алексее Михайловиче. Своими непрестанными изменами и путчами казаки до того ему опротивели, что он открыто высказывался за лишение Украины русского подданства. Только глубокая религиозность царя Алексея Михайловича, приходившего в ужас при мысли об отдаче православного народа католикам или магометанам, не позволяла распространения подобных тенденций при дворе.
Начало идеологии
Решающие перемены в судьбах народов вроде тех, что пережила Малороссия в середине XVII века, проходят обычно под знаком каких-нибудь популярных лозунгов, чаще всего религиозных или национальных. С 1648 по 1654 год, когда шла борьба с Польшей, простой народ знал, за что он борется, но у него не было своего Томаса Мюнцера, способного сформулировать идею и программу движения. Те же, которые руководили восстанием, преследовали не народные, а свои узко кастовые цели. Они беззастенчиво предавали народные и национальные интересы, а к религиозным были достаточно равнодушны. Ни ярких речей или проповедей, ни литературных произведений, никаких вообще значительных документов, отражающих дух и умонастроения той эпохи, хмельнитчина не оставила. Зато много устных и письменных «отложений» оставила по себе вторая половина XVII века, отмеченная знаком господства казачества в крае. В эту эпоху выработалось все то, что потом стало навязываться малороссийскому народу как форма национального самосознания. Идеологией это назвать трудно по причине полного отсутствия всего, что подходило бы под такое понятие. Скорей это была «психология» — комплекс настроений, созданный пропагандой. В психологическом климате, созданном таким путем, первое место занимала ненависть к государству и народу, с которыми Южная Русь соединилась добровольно и «с радостью», но которые стояли на пути осуществления хищных замыслов казачества. Семидесятилетие, протекшее от Хмельницкого до Полуботка, может считаться настоящей лабораторией антимосковской пропаганды. Началась она при жизни Богдана и едва ли не сам он положил ей начало.
Особенно усердно прибегали к этому приему после Андрусовского перемирия 1667 года, по которому русские вынуждены были уступить полякам всю правую сторону Днепра за исключением Киева. Но и Киеву, по истечении двух лет, надлежало отойти к той же Польше. Всем воочию было видно, что русские это делают по горькой необходимости, в силу несчастного оборота войны, принудившего их помириться на формуле: «Кто чем владеет». Известно было, что и исход войны определился в значительной мере изменами Выговского, Ю. Хмельницкого, Тетери и Дорошенко. «Ведомо вам самим,- говорил в 1668 году князь Ромадановский на Глуховской раде,- что той стороны Днепра казаки и всякие жители от царского величеству отлучились и польскому королю поддались сами своею охотою прежде Андрусовских договоров, а не царское величество их отдал; по тому их отлученью и в Андрусове договор учинен». Гетман Демьян Многогрешный перед всей радой должен был признать правильность этих слов. «Нам ведомо подлинно, — заявил он, — что тамошние казаки поддались польскому королю сами: от царского правительства отдачи им не бывало». Тем не менее, по всей стране разнесена была клеветническая молва.
Другим излюбленным мотивом антирусской пропаганды служили пресловутые воеводы, их мнимые зверства и притеснения. Легенда о притеснениях складывалась не из одних слухов и нашептываний, но имела и другой источник — гетманские универсалы. Редкий гетман не изменял царю и каждый вынужден был оправдывать свою измену перед народом и казаками.
Выговский, задумав отпадение от Москвы, тайно поручил миргородскому полковнику Лесницкому послать в Константинов воззвание и, созвав у себя раду из сотников и атаманов, обратился к ней с речью: «Присылает царь московский к нам воеводу Трубецкого, чтоб войска запорожского была только 10 тыс., да и те должны жить в Запорожьи. Пишет царь крымский очень ласково к нам, чтоб ему поддались; лучше поддаться крымскому царю: московский царь всех нас драгунами и невольниками вечными сделает, жен и детей ваших в лаптях лычных водить станет, а царь крымский в атласе, аксамите и сапогах турецких водить будет «. Но самые яркие универсалы вышли из-под пера Брюховецкого: «Послы московские с польскими комиссарами присягою утвердились с обеих сторон: разорить Украину отчизну нашу милую, истребив в не всех жителей больших и малых. Для этого Москва дала ляхам на наем чужеземного войска четырнадцать миллионов денег. О таком злом намерении неприятельском и ляцком узнали мы через Духа Святого».
На Дон было отправлено более красочное послание. В нем москали обвинялись в том, что «постановили православных христиан, на Украине живущих, вся кого возраста и малых отрочат мечом выгубить, слобожан захватив, как скот в Сибирь загнать, славное Запорожье и Дон разорить и вконец истребить, чтобы на тех местах, где православные христиане от кровавых трудов питаются, стали дикие поля, зверям обиталище, да чтобы здесь можно было селить иноземцев из оскуделой Польши».
Неразборчивостью лжи поражают все гетманские универсалы такого рода. Вот что писал Мазепа в объяснение причин, побудивших его перейти к Карлу XII: «Московская потенция уже давно имеет всезлобные намерения против нас, в последнее время начала отбирать в свою область малороссийские города, выгонять из них ограбленных и доведенных до нищеты жителей и заселять своими войсками». По словам Мазепы, трусливые москали, всегда удиравшие от непобедимого шведского войска, явились теперь в Малороссию не для борьбы с Карлом, «не ради того, чтобы нас защищать от шведов, а чтобы огнем, грабежом и убийством истреблять нас». Чем менее благовидны и менее народны были мотивы измены, тем большим количеством «тиранств» московских надо было её оправдать. Измена Мазепы породила наибольшее количество агитационного материала и антимосковских легенд.
Тем не менее уже в XVII веке началась идеализация гетманов. Когда заинтриговавшийся Выговский, отвергнутый казачеством, брошенный старшиной, был расстрелян поляками, левобережный гетман Брюховецкий оповестил народ, что Выговский пострадал «за правду». Сам Брюховецкий, убитый собственными казаками, удостоился впоследствии тоже доброго слова. Гетмана Многогрешного, как известно, схватила и обвинила в измене сама генеральная старшина, потребовав от Москвы его наказания, но когда Москва, плохо верившая в действительную измену гетмана, сослала его в Сибирь в угоду казачеству, та же самая старшина стала распространять слух о невинном заточении Многогрешного. То же было с Самойловичем. Из него сделали страдальца за Украину. Но самого неожиданного ореола удостоился Мазепа. Сомнительный малоросс, человек польского склада, задумавший под конец жизни присоединить Украину снова к Речи Послолитой на условиях Гадячского протокола, крепостник и притеснитель крестьянства, стяжатель, он сам знал, что его ненавидят в народе и в старшине, и потому шагу не делал без своих сердюков, игравших при нем роль янычаров. Это был самый, может быть, непопулярный из всех гетманов. Когда он изменил, за ним никто не пошел, за исключением двухтысячной банды запорожцев, да нескольких человек генеральской старшины. Тем не менее ни один гетман не превознесен так в качестве национального героя, как Мазепа.
Все, что казачество за сто лет гетманского режима наговорило, накричало на радах, написало в «листах» и универсалах — не пропало даром. Уже про ближайших сподвижников Мазепы, убежавших с ним в Турцию, самостийнические писатели говорят как о людях «перековавших» свои казачьи вожделения «в гранитную идеологию». Впоследствии все это попало в летописи Грабянки, Величко, Лукомского, Симановского и получило значение «исторических фактов».
Но уже давно выделился среди этих апокрифов один, совершенно исключительный по значению, сыгравший роль Корана в истории сепаратистского движения. В 1946 году, в сотую годовщину его опубликования, состоялось под председательством Дм. Дорошенко заседание самостийнйческой академии в Америке, на каковом оный апокриф охарактеризован был как «шедевр украинской историографии». Речь идет об известной «Истории русов». Высказана мысль, что составлена она около 1810 года. Распространяться начала во всяком случав до 1825 года. Написана чрезвычайно живо и увлекательно, превосходным русским языком карамзинской, эпохи, что в значительной степени обусловило ее успех. Расходясь в большом количестве списков по всей России, она известна были Пушкину, Гоголю, Рылееву, Максимовичу, а впоследствии — Шевченко, Костомарову, Кулишу, многим другим и оказала влияние на их творчество.
Давно, однако, замечено, что из всех казачьих историй она — самая недостоверная. Слово «недостоверная» явно недостаточно для выражения степени извращения фактов и хода событий, изложенных в ней. Если про летопись Самойла Величко часто говорят, что она составлена неразборчивым компилятором, собиравшим без критики все, что попало, то у автора «Историй русов» виден ясно выраженный замысел. Его извращения — результат не невежества, а умышленной фальсификации. Это нашло выражение прежде всего в обилии поддельных документов, внесенных в «Историю». Мы знаем не мало подделок, сыгравших политическую рель — «Константинов дар», «Завещание Любуши», «Завещание Петра Великого» и проч., но сочинения, в котором бы история целого народа представляла сплошную легенду и измышление — кажется, не бывало. Появиться оно могло только в эпоху полной неразработанности украинской истории. До самой середины прошлого столетия не начиналось сколько-нибудь серьезного ее изучения.
В такое-то незрелое время появилась цельная, законченная, прекрасно написанная «История русов». Читатели самые образованные оказались беззащитными против нее. Осмыслить факт столь грандиозный фальсификации никто не был в состоянии. Не только простая публика, но и ученые-историки XIX века пользовались ею как источником и как авторитетным сочинением. Костомаров, всю жизнь занимавшийся историей Украины, только на склоне лет пришел к ясному заключению, что в «Истории русов» «много неверности и потому она… производила вредное в научном отношении влияние, потому что распространяла ложные воззрения на прошлое Малороссии». Автор памфлета явно строил свой успех на читательской неосведомленности и нисколько не заботится о приведении повествования хотя бы в некоторое соответствие с общеизвестными и бесспорными фактами. Можно пройти мимо его рассуждений о скифах, сарматах, печенегах, хазарах, половцах, которые все зачисляются в славяне. Можно доставить себе веселую минуту, читая производство имен хазар и казаков — «по легкости их коней, уподобляющихся козьему скоку». Но анекдотичность метода сразу же зарождает подозрение, как только дело доходит до «мосхов». Тут за филологической наивностью обнаруживается скрытая политика. Оказывается, этот народ, в отличие от других перечисленных, произошел не от князя Руса, внука Афетова, а от другого потомка Афета — от князя Мосоха, «кочевавшего при реке Москве и давшего ей сие название». Московиты или мосхи ничего не имеют общего с русами, и история их государства, получившего название Московского, совершенно отлична от истории государства русов. Умысел, скрытый под доморощенной лингвистикой, выступает здесь вполне очевидно.
«История русов» не только не признает единого общерусского государства Х-ХIII веков, но и населявшего его единого русского народа. Напрасно приписывают М.С. Грушевскому авторство самостийнической схемы украинское истории: главные ее положения — изначальная обособленность украинцев от великороссов, раздельность их государств — предвосхищены чуть не за сто лет до Грушевского. Киевская Русь объявлена Русью исключительно малороссийской. Удивляет только полнейшее равнодушие к этому периоду. Всему, что как-нибудь к нему относите, отведено не более пяти-шести страниц, тогда как чуть не триста страниц посвящено казачеству и казачьему периоду. Не Киев, а Запорожье, не Олег, Святослав, Владимир, а Кошка, Подкова, Наливайко оправляют дух и колорит «Истории русов». Экскурс в древние времена понадобился единственно ради генеалогии казачества. Оно, по словам автора, существовало уже тогда, только называлось «казарами». «Воины сии, вспомоществуя часто союзникам своим, а паче грекам, … переименованы от царя Константина Мономаха из казар казаками и таковое название навсегда уже у них осталось».
Автор с негодованием отвергает версию, по которой казачество как сословие учреждено польскими королями. Малороссия — казачья страна от колыбели, но казаки — не простые гультяи, а люди благородного дворянско-рыцарского сословия. Их государство, Малая Русь, никогда никем не было покорено, только добровольно соединялось с другими, как «равное с равными». Никакого захвата Польшей и Литвой не было. Уния 1386 года — ни позорна, ни обидна. Именно тогда будто бы учреждено «три гетмана с правом наместников королевских и верховных военачальников и с названием одного коронным Польским, другого Литовским, а третьего Русским». Здесь «русские», то есть казачьи гетманы, объявлены, как и само казачество, очень древним институтом, а главное, им приписано не то значение предводителей казачьих скопищ, какими они были в XVI — XVII веках, до Богдана Хмельницкого, но правителей края, представителей верховной власти. Их приближают к образу и подобию монархов.
Расписав польско-литовский период как идиллическое сожительство с соседними народами и как времена полной национальной свободы, автор совсем иными красками изображает присоединение Малороссии к Москве. Это черный день в ее истории, а Богдан Хмельницкий — изменник.
Объявив казачество и гетманов солью земли, приписав им рыцарское и княжеское достоинство, утвердив за ними право на угодья и на труд крестьян «по правам и рангам», автор видит в них главных деятелей малороссийской истории. Нет таких добродетелей и высоких качеств, которыми они не были бы украшены. Любовь, их к отчизне и готовность жертвовать за нее своею кровью может сравниться с образцами древнеримского патриотизма, по доблести же и воинскому искусству они не имеют себе равных в мире. Победы их неисчислимы. Даже находясь в составе чужих войск, казаки играют всегда первенствующую роль, а их предводители затмевают своим гением союзнических полководцев. Михайло Вишневецкий, явившийся якобы на помощь москвичам при взятии Астрахани, оттесняет на второй план царских воевод и берет в свои руки командование. Только благодаря ему Астрахань оказывается завоеванной. Успехи русских под Смоленском в 1654 году объясняются не чем иным, как участием на их стороне полковника Золотаренко. Документальные источники свидетельствуют, что Золотаренко явился под Смоленск во главе не более, чем тысячи казаков, и, пробыв под осажденным городом пять дней, ушел, ничем себя не проявив. Это не помешало автору «Истории русов» сделать его героем смоленского взятия, приписав ему план и выполнение осады, и даже вложить в уста длинные наставления по части военного искусства, которые он читал царю Алексею Михайловичу. Любопытно также описание битвы при Лесном, где, как известно, Петром Великим разбит был корпус генерала Левенгаупта, шедший на соединение с Карпом XII. Оказывается, в этой битве трусливые москали, как всегда, не выдержали шведского натиска и побежали. Битва была бы неминуемо проиграна, если бы Петр не догадался прибегнуть к помощи малороссийских казаков, бывших при нем. Он употребил их как заградительный отряд, приказав беспощадно рубить и колоть бегущих. Казаки повернули москалей снова против неприятеля и тем закончили бой полной победой. Исход сражения под Полтавой точно так же решен не москалями, а казаками под начальством Палея. Чтобы не бросить тени на воинскую честь тех, что находились с Мазепой в шведском стане, автор отрицает их участие в Полтавском сражении. По его словам, Мазепа, перейдя к Карлу, держался… «строгого нейтралитета».
Казачьи подвиги спасали не одну Россию, но всю Европу. Принцу Евгению Савойскому не взять бы было Белграда, если бы Мазепа не отвлек крымские силы созданием военной базы в Самаре (о которой мы, кстати, ничего не знаем), а Салониками завладели цесарские войска единственно благодаря Палею, запершему татар в Бессарабии.
Но как объяснить слишком общеизвестные факты поражений казаков? В этих случаях непременно на помощь приходят всевозможные «измены» и «предательства». Молниеносное взятие Меньшиковым Батурина, базы мазепинцев, пришлось объяснить именно такой изменой. Приступ Меньшикова, оказывается, был отбит и сердюки наполнили ров трупами россиян; русские бежали и покрыли бы себя вечным позором, если бы не прилуцкий полковник Нос. Он убедил Меньшикова через старшину своего Сельмаху остановиться, вернуться и войти в город через тот участок укреплений, который находился под защитой самого Носа. Меньшиков послушался, вошел на рассвете тихонько в город, когда сердюки, отпраздновав вчерашнюю победу, крепко спали, и напал на них сонных.
Важная тема в «Истории русов» — зверства москалей. При взятии Батурина Меньшиков велел будто бы перебить всех поголовно, вплоть до младенцев. Жестокости, тут описанные, встречаются только в историях ассирийских царей или в походах Тамерлана. Перевязанных «сердюцких старшин и гражданских урядников» он колесовал, четвертовал, сажал на кол, «а дальше выдуманы новые роды мучения, самое воображение в ужас приводящие». Тела казненных Меньшиков бросал на съедение зверям и птицам и, покинув сожженный Батурин, жег и разорял по пути все малороссийские селения, «обращая жилища народные в пустыню». «Малороссия долго тогда еще курилась после пожиравшего ее пламени».
Зверства царского любимца не ограничились, по уверению «Истории русов», батуринскими избиениями, но распространились на тех чиновников и знатных казаков, что не явились «в общее собрание» для выборов нового гетмана. Они, по подозрению в сочувствии Мазепе, были преданы различным казням в местечке Лебедине, что около города Ахтырки». Казни были, разумеется, самые нечеловеческие, а казням предшествовали пытки «батожьем, гнутом и шиною, то есть разженым железом, водимым с тихостью или медленностью по телам человеческим, которые от того кипели, шкварились и воздымались».
Жертвами таких истязаний сделались якобы до девятисот человек. Сейчас можно только удивляться фантазии автора, но на его современников картина меньшиковских зверств производила, надо думать, сильное впечатление. Им неизвестно было, что число единомышленников Мазепы ограничивалось ничтожной горстью приближенных, что не только не было необходимости казнить людей по подозрению в сочувствии гетману, но и те из заговорщиков вроде Данилы Апостола и Галагана, которые, побыв с Мазепой в шведском стане, вновь перебежали к Петру,- не были ни казнены, ни лишены своих урядов. Данило Апостол сделался впоследствии гетманом. Дано было согласие сохранить жизнь и булаву самому Мазепе после того, как он, пробыв некоторое время в шведском стану, дважды присылал к Петру с предложением перейти снова на его сторону да привести заодно с собой короля Карла и его генералов.
Злостный пасквиль на Петра и Меньшикова, выведенных палачами украинского народа,- только одна из глав великой эпопеи московских жестокостей, развернутой на страницах «Истории русов». Изощряясь в подыскании красок для очернения русских, автор с чрезвычайной симпатией отзывается о шведах, пришедших с Карлом XII на Украину. Хорошо известно, что вели они себя там далеко не по-джентльменски. Карл был воинствующим протестантом и еще в Саксонии и в Польше успел насильственно обратить около восьмидесяти, костелов в лютеранские кирхи. К православной вере испытывал еще меньшее уважение. Церкви православные занимал для постоя и устраивал там конюшни. Известны многочисленные случай жестокостей по отношению к местному населению — сожжение деревень и истребление жителей. Отправляясь в Малороссию, король рассчитывал найти там богатые склады хлеба и всяческих припасов, заготовленных Мазепой, но придя не нашел ничего. Тогда начался грабеж украинского населения. «История русов» не упоминает о нем ни одним словом, приход Карла описывает так: «Вступление шведов в Малороссию нимало не похоже было на нашествие неприятельское, и ничего оно в себе враждебного не имело, а проходили они селения обывательские и пашни их как друзья и скромные путешественники, не касаясь ничьей собственности, и не делали вовсе тех озорничеств, своевольств и всех родов бесчинств, каковы своими войсками обыкновенно в деревнях делаются под титулом: » Я слуга царский ! Я служу Богу и Государю за весь мир христианский ! Куры, гуси, молодцы и девки, нам принадлежат по праву войны и по приказу его благородия ! » Шведы, напротив, ничего у обывателей не вымогали и насильно не брали, но где их находили, покупали у них добровольным торгом за наличные деньги. Каждый швед выучен был говорить по-русски к народу: «Не бойтесь ! Мы ваши, а вы наши !»
Мало было, однако сочинить подобную идиллию, надо было еще объяснить широко известный факт ожесточенной борьбы малороссийского населения со «скромными путешественниками». И тут автор «Истории русов» не остановился перед сочинением гнусного пасквиля на свой народ. Этот народ он уподобляет «диким американцам или своенравным азиатцам». Он находит, что, убивая шведов целыми партиями и по одиночке, украинцы делали это единственно по своей глупости; шведы — де вызывали их ярость тем, что не умели говорить по-русски и не крестились. Приводя в русский лагерь пленного шведа, малоросс получал за это «сначала деньгами по нескольку рублей, а напоследок по чарке горелки с приветствием: «Спасибо, хохленок!»
Автор злорадно уверяет, что за свое усердие, украинцы не были даже награждены. Награды и производства сыпались на великорусов, а они остались «притчею у людей». «И хотя они в истреблении армии шведской более всех показали ревности и усердия, хотя они около года губили шведов… остались без вознаграждения и уважения».
Автор с большим удовольствием описывает, как запорожцы, ушедшие с Мазепой в Турцию, мстили потом малороссийскому народу за его верность России, совершая набеги вкупе с татарами и бессарабцами.
Чрезвычайно искусно преподнесена в «Истории русов» мазепинская легенда. Хитрого, вкрадчивого карьериста, каким был Мазепа, нет и в помине. Перед нами — «отец отечества», ставящий благоденствие Украины выше собственной жизни. Современный читатель, хорошо знающий, что весь «патриотический» план Мазепы заключался в присоединении Украины к Польше на условиях Гадячского договора, не без любопытства прочтет о мудром намерении гетмана не приставать ни к одной из сторон. Ссылаясь на свой продолжительный политический опыт, он считает за благо не воевать ни со шведами, ни с поляками, ни с русскими, но, собрав собственное войско, быть готовым отстаивать свою землю от всякого, кто на нее посягнет. Согласно «Истории русов», такое войско у Мазепы существовало в момент вторжения Карла XII. Он будто бы стоял с ним на Десне, а свою главную квартиру учредил где-то между Стародубом и Новгород-Северским. Отсюда он и обратился будто бы к малороссам с воззванием.
Чтобы покончить с темой Мазепы и с ее трактовкой в «Истории русов», приведем выдержку из Костомарова, посвятившего Мазепе под конец своей жизни обширную монографию. Вот каким представляется ему это божество самостийников:
«Гетман Мазепа, как историческая личность, не был представителем никакой национальной идеи. Это был эгоист в полном смысле этого слова. Поляк по воспитанию и приемам жизни, он перешел в Малороссию и тем сделал себе карьеру, подделываясь к московским властям и отнюдь не останавливаясь ни перед какими безнравственными путями. Самое верное определение этой личности будет сказать, что это была воплощенная ложь. Он лгал перед всеми, всех обманывал — и поляков, и малороссиян, и царя, и Карла, всем готов был делать зло, как только представлялась ему возможность получить себе выгоду или вывернуться из опасности».
Появление «Истории русов» свидетельствует, что в конце XVIII — в начале XIX века все еще существовали люди, недовольные имперским правительством и облекавшие свое недовольство в старинные казачьи формы. Казалось бы, запорожская вольница добилась всего, о чем мечтала — богатства, власти, земель, крепостных крестьян. Чем могли питаться теперь ее антирусские настроения? Для подавляющего большинства прежней старшины — ничем. Мы знаем, что оно прекратило всякую фронду и стало оплотом самодержавия наряду с великорусским дворянством. Но осталась кучка не до конца «устроенных». Чтобы понять ее недовольство, надо пристальнее присмотреться к «Истории русов» с ее навязчивой идеей шляхетства-казачества. Это главная тема и политический нерв произведения.
Судя по тому, как часто кстати и некстати в книге подчеркивается рыцарское достоинство казаков, к каким изощренным приемам фальши прибегает автор, чтобы утвердить за ними шляхетские права, можно заключить о болезненной чувствительности этого пункта. Весь тон повествования похож на страстный ответ кому-то, кто оспаривает казачье дворянство. Перед нами драма той части потомков Кошек, Подков, Гамалеев, которая успела добиться всего, кроме прав благородного сословия.
Не было, кажется, случая, чтобы имперское правительство лишало малороссийского помещика земель и крестьянских душ только за то, что он не дворянин. Помещики продолжали владеть де-факто теми и другими, но сами отлично знали, что это противозаконно. Страдало их самолюбие и от таких «мелочей», как недопущение на первых порах в Шляхетский кадетский корпус (открытый в 1731 году) детей малороссов, «поелику-де в Малой России нет дворян». Казачество так быстро сделало помещичью карьеру, что не успело еще изгладиться из памяти его происхождение. Граф Румянцев в письмах к Екатерине II рассказывает, что при выборах в Комиссию по составлению Нового уложения редкое собрание обходилось без саморазоблачении, всегда кого-нибудь собственные же соседи публично уличали в отсутствии у него дворянского звания. Тогда обиженный вставал и начинал перечислять всех крупных вельмож — своих земляков, ведущих род либо «от мещан», либо «от жидов». Царское правительство смотрело на это сквозь пальцы, оно неуклонно вело политику превращения местных самочинных «аграриев» в российских дворян. Те же выборы в екатерининскую комиссию 1767 года, проводившиеся в Малороссии по сословному принципу, как во всей России, означали фактическое признание тамошних помещиков за дворян. Со времен царя Алексея Михайловича началась практика выдачи всевозможных грамот, закреплявших за панами в вечное потомственное владение земель и угодий. Совершенно ясное узаконение малорусского дворянства произведено распространением на Малороссию (в 1782 году) закона о губерниях и уравнением крестьян и помещиков обеих частей государства по указу 1783 года. Наконец, через два года явилась жалованная грамота Российскому Дворянству, относившаяся в одинаковой мере как к великорусам, тек и малорусам.
Но одно дело — общее законодательство, а другое бюрократическая практика. В скрипучей машине необъятной империи колеса вертелись не всегда гладко, на Украине оказалось столько оттенков и категорий панства, что их трудно было перевести на всероссийскую шкалу. Продолжал также действовать род государственного преступления, учиненного Богданом Хмельницким, который, получил согласие царя на небывало высокую цифру казачьего реестра в 60 тыс. человек, так и не составил этого реестра. Когда заходила речь о жаловании казакам и московское правительство требовало списки, их не оказывалось. Никто не знал, сколько в Малороссии казаков, и неизвестно было, кто казак, а кто мужик. Вопрос этот решался обычно по личному усмотрению старшины.
Дворянское звание закрепляли сначала за чинами войскового уряда, что было довольно просто, там белее, что большинству этих тузов шляхетство давно было пожаловано либо польскими королями, либо царями московскими. Сравнительно легко справились с полковой аристократией, приравняв полковников к бригадирам, полковых есаулов, хорунжих и писарей — к ротмистрам, сотников — к поручикам и т.д. Но оставалось много званий, которых табель о рангах не предвидела и не вмещала. С ними были вечные недоразумения, усугубленные деятельностью малороссийских депутатских дворянских собраний. Призванных разбирать права своей страждающей братии, они, по словам А. Я. Ефименко, «завели чуть-что не открытую торговлю дворянскими правами и дипломами». Все это способствовало недовольству и популярности того «учения», согласно которому казацким потомкам вовсе не нужно доказывать свое шляхетство, поскольку казачество извеку было шляхетским сословием.
До какой степени проблема «прав» тревожила умы и какой климат создавала она на Украине, можно судить по тому, что еще в шестидесятых годах XVIII века южное дворянство в массе своей не могло предъявить никаких документов в подтверждение своего «благородного» происхождения: объясняли это гибелью семейных архивов во время смут и войн. Однако, лет через пятнадцать-двадцать, ко времени возникновения комиссии о разборе дворянских прав в Малороссии до ста тысяч дворян явилось с превосходными документами и с пышными родословными.
Оказалось, что Скорападские, например, происходят от некоего «референдария над тогобочной Украиной». Раславцы — от польских магнатов Ходкевичей, Карновичи — от венгерских дворян, Кочубеи — от татарского мурзы. Афендики — от молдавского бурголаба, Капнисты — от мифического веницианского графа Капниссы, жившего на острове Занте. Появились самые фантастическиа гербы. Весь Бердичев трудилея над изготвлением бумаг и грамот для потомков сечевых молодцов. Когда да Герольдии дошли сведения о злоупотреблениях на почве гербов, она стала придирчивой и затруднила доступ в дворянство тем, кто еще не успел попасть туда. Особенные строгости начались с 1790 год.
В этот трудный для известной части, малороссийского шляхетства период, когда оно в тайне раздражено было против иператорского правительства возник рецидив казачьих настроений, вылившийся в сочинении фантастической «Истории русов».
Все, чем казачество оправдывало свои измены и «замятни», свою ненависть к Москве, оказались собранным здесь в назидание потомству. И мы знаем, что потомство возвело эту запорожскую политическую мудрость в символ веры. Стоит разговориться с любым самостийником, как сразу обнаруживается, что багаж его «национальной» идеологии состоит из басен «Истории русов», из возмущении проклятой Екатериной II, которая «зачіпала крюками за ребра и вішала на шибениці наших українських козаків». Казачья идеология сделана национальной украинской идеологией. В противоположность европейским и американским сепаратизмам, развивающимся чаще всего под знаком религиозных и расовых отличий, либо социально-экономических противоречий, украинский не может основываться ни на одном из этих принципов. Казачество подсказало ему аргумент из истории, сочинив самостийническую схему украинского прошлого, построенного сплошь на лжи, подделках, на противоречиях с фактами и документами. И это объявлено ныне «шедевром украинской историографии»
«Возрождение»
Процесс слияния малороссийского шляхетства с великорусским шел так быстро, что окончательно в упразднение гетманства при Екатерине не вызвало никакого сожаления. Если небольшая кучка продолжала твердить о прежних «правах», то очень скоро «желание к чинам, а особливо к жалованию» взяло верх над «умоначертаниями старых времен». Как только разрешился в благоприятную сторону вопрос о проверке дворянского звания, южнорусское шляхетство окончательно сливается с северным и становится фактором общероссийской жизни. Забвение недавнего автономистского прошлого было так велико, что, по словам того же Грушевского, «созидание национальной жизни» пришлось начинать «заново на пустом месте».
Все, что подходило под понятие национальной жизни на Украине в первой половине XIX столетия, представлено было любителями народной поэзии и собирателями фольклора, добрая половина которых состояла из «кацапов», вроде В. Пассека, И. Срезневского, А. Павловского. Даже Костомаров до двадцатилетнего возраста не знал, великорус он или малорус.
Что же до природных украинцев — Максимовича, Метлинского, Котляревского, Гребинки, то они не только не противопоставляли украинизма русизму, но всячески, подчеркивали свою общероссийскую природу, нисколько не мешавшую им быть украинцами. «Скажу вам, что я сам не знаю, какова у меня душа, хохлацкая или русская: Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни Малороссиянину перед русским, ни русскому перед Малороссиянином. Обе природы щедро одарены Богом и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой».
Эти слова Гоголя могут считаться выражающими настроения подавляющего числа тогдашних малороссийских патриотов. Весь их патриотизм заключался в простой, естественной, лишенной какой бы то ни было политической окраски, любви к своему краю, к его природе, этнографии, к народной поэзии, к песням и танцам. Самая деятельность их заключалась в собирании этих песен и сказок, в изучении языка и быта, в сочинении собственных стихов и повестей на этом языке. «Наступило, кажется, то время, когда познают истинную цену народности,- писал Максимович в предисловии к своему сборнику малороссийских песен, — начинает уже сбываться желание: да создастся поэзия истинно русская».
Этот человек, любивший Украину, никогда не забывал, что она — русская земля. «Уроженец южной Киевской Руси, где земля и небо моих предков, я преимущественно ей принадлежал и принадлежу доныне, посвящая преимущественно ей и мою умственную деятельность. Но с тем вместе, возмужавший в Москве, я также любил, изучал и северную Московскую Русь, как родную сестру нашей Киевской Руси, как вторую половину одной и той же святой Владимирской Руси, чувствуя и сознавая, что как их бытие
[несколько предложений потеряны из-за брака верстки выжимки]
фессор Харьковского и Киевского университетов, восторженный романтик и идеалист, страстный собиратель народной поэзии. В предисловии к своему сборнику южнорусских песен, выпущенному в Киеве в 1854 году, он писал все в том же духе единства русского народа и русской культуры: «Я утешался и одушевился мыслью, что всякое слово и памятник слова есть необходимая часть великого целого, законное достояние всего русского народа и что изучение и разъяснение их есть начало их общего самопознания, источник его словесного богатства, основание славы и самоуважения, несомненный признак кровного единства и залог святой братской любви между его единоверными и единокровными сынами и племенами».
Русское столичное общество не только не враждебно относилось к малороссийскому языку и произведениям на этом языке, но любило их и поощряло, как интересное культурное явление. Центрами новой украинской словесности в XIX веке были не столько Киев и Полтава, сколько Петербург и Москва.
Первый сборник старинных малороссийских песен, составленный князем М.А. Церетелевым, издан в 1812 году в Петербурге. Первая «Грамматика малороссийского наречия», составленная великорусом А. Павловским, вышла там же в 1818 году. «Малороссийские песни», собранные Максимовичем, напечатаны в Москве в 1827 году. В 1834 году там же вышло второе их издание. В Петербурге печатались Котляровский, Гребинка, Шевченко. Когда Гоголь прибыл в Петербург, он и в мыслях не держал каких бы то ни было украинских сюжетов, сидел над «Гансом Кюхельгартеном» и намеревался идти дорогой тогдашней литературной моды. Но вот через некоторое время пишет он матери, чтобы та прислала ему пьесы отца. «Здесь всех так занимает все малороссийское, что я постараюсь попробовать поставить их на театре». В Петербурге поэтов, писавших по-украински, пригревали, печатали, выводили в люди и создавали им популярность. Личная и литературная судьба Шевченко — лучший тому пример. «Пока польское восстание не встревожило умов и сердец на Руси — писал Костомаров, — идея двух русских народностей не представлялась в зловещем виде, и самое стремление к развитию малороссийского языка и литературы не только никого не пугало призраком разложения государства, но и самими великороссами принималось с братской любовью».
Говоря о «национальной жизни», Грушевский имел в виду не таких людей, как Метлинский и Максимович, и не любовь к народу и к народной поэзии. Национальные его устои связаны с радами, бунчуками, с враждой к Московщине. Но если этот национализм пришлось создавать «заново, на пустом месте», то каким чудотворным словом поднят был из гроба Лазарь казачьего сепаратизма? Штампованная марксистская теория без труда отвечает на этот вопрос: развитие капитализма, нарождение буржуазии, борьба за рынки.
Кого сейчас способно удовлетворить такое объяснение? Не говоря уже о внутреннем банкротстве самой теории, не существует, сколько нам известно, ни одной серьезной попытки приложения ее к изучению капиталистического развития на Украине в XIX веке. Капитализма собственно украинского, отличного от общероссийского, невозможно обнаружить, до такой степени они слиты друг с другом. А о борьбе за «внутренний рынок» смешно говорить при виде украинских богачей, сидевших в Москве и в Петербурге, как у себя дома.
Украинский национализм XIX века получил жизнь не от живого, а от мертвого периода — от кобзарских дум, легенд, летописей и прежде всего — от «Истории русов». Это не единственный случай. Существовало лет сто тому назад новокельтское движение, поставившее целью возродить кельтский мир в составе Ирландии, Шотландии, Уэлса и французской Бретани. Стимулом были древняя поэзия и предания. Но, рожденное не жизнью, а воображением, движение это дальше некоторого литературного оживления, филологических и археологических изысканий не пошло. Не получилось бы никаких всходов и на почве увлечения казачьей словесностью, если бы садовник-история не совершила прививку этой отрезанной от павшего дерева ветки к растению, имевшему корни в почве XIX века.
Казачья идеология правилась к древу российской революции и только от него получила истинную жизнь. То, что самостийники называют своим «национальным возрождением», было не чем иным, как революционным движением, одетым в казацкие шаровары. Это замечено современниками. Н. М. Катков в 1863 году писал: «Годе два или три тому назад вдруг почему-то разыгралось украинофильство. Оно пошло паралельно со всеми другими отрицательными направлениями, которые вдруг овладели нашей литературой, нашей молодежью, нашим прогрессивным чиновничеством и разными бродячими элементами нашего общества».
Ни Гоголь, ни Максимович, ни один из прочих малороссов, чуждых революционной закваски не прельстился «Историей русов», тогда как в сердцах революционеров и либералов она нашла отклик. И еще любопытнее: «первая попытка в поэзии связать европейский либерализм с украинскими историческими традициями была предпринята не украинцами, а великорусом Рылеевым».
Кондратий Федорович Рылеев были из тех одержимых, которые пьянели от слов «свобода» и «подвиг». Они их чтили независимо от контекста. Берясь за исторические сюжеты, он никогда с ними не знакомился сколько-нибудь обстоятельно, доверял первой попавшейся книге или просто басне. Не трудно представить, каким кладом оказались для него «История русов» и казачьи летописи, где что ни имя, то герой, что ни измена, то непременно борьба за вольность, за «права». Едва ли не большее число его «дум» посвящено украинскому казачеству. Наливайко, Богдан Хмельницкий, Мазопа, Войнаровский — все они борцы за свой край, готовые жертвовать за него кровью.
Чтоб Малороссии родной,
Чтоб только русскому народу
Вновь возвратить его свободу.
Грехи татар, грехи жидов,
Отступничество униатов,
Все преступления сарматов
Я на Душу принять готов.
Не менее благородные и возвышенные чувства звучат в «Войнаровском», где измена Мазепы рассматривается как «борьба свободы с самовластием».
Рылеев проложил тропу и к русофобии. Это те же стихи в «Войнаровском», что посвящены его жене казачке, стоически переносящей выпавшие на ее долю невзгоды.
Ее тоски незрел москаль,
Она ни разу и случайно
Врага страны своей родной
Порадовать не захотела
Ни тихим вздохом, ни слезой.
Она могла, она умела
Гражданкой и супругой быть.
Если не считать небольшой группы казакоманов, то не только в простом народе, но и в образованном малороссийском обществе времен Рылеева редко встречались люди, способные назвать «москаля» «врагом страны своей родной». Не трудно отсюда заключить о роли поэм «великоруса Рылеева». Облаченный им в римскую тогу казачий автономизм приобретал новизну и привлекательность, роднился с европейским освободительным движением, льстил местному самолюбию. Сословные путчи гетманской эпохи возводились в ранг жертвенных подвигов во имя свободы, а добычники и разбойники выступали в обличий Брутов и Кассиев.
Не надо забывать, что Рылеев — декабрист, а декабристский заговор в значительной мере и, может быть, в большей, чем мы предполагаем, был заговором украинско-польским. Эта его сторона наименее изучена, но игнорировать ее нельзя. Из показаний М. П. Бестужева-Рюмина перед следственной комиссией известно, что между Директорией южного декабристского общества и обществом польским заключено было в 1824 году формальное соглашение, по которому поляки обязывались «восстать в то же самое время, как и мы», и координировать свои действия с русскими повстанцам. Но в том сказалась только одна из сторон польской заинтересованности в русском бунте. Поляки много работали над разжиганием едва тлевшего под золой уголька казачьей крамолы и над объединением ее с декабристским путчем. Делалась ставка на возвращение Польше если не всей Малороссии, то на первый случай значительной ее части. По договору 1824 года южное общество обнадежило их получением Волынской, Минской, Гродненской части Виленской губерний. Но главные польские чаяния связывались с украинским автономистским движением. По словам С. Г. Волконского, поляки питали «большую надежду на содействие малороссийских дворян, предлагая им отделение Малороссии от России». От союза с малороссийским дворянством они ожидали большего, чем от офицерского восстания. Но в массе своей южные помещики оказались вполне лояльными по отношению к самодержавию. Только очень небольшая кучка встала
[несколько предложений потеряны из-за брака верстки выжимки]
потомков гетмане Данилы, но пройти мимо Общества соединенных славян вряд ли возможно. Своим если не возникновением, то направлением обязано оно поляку Ю.К. Люблинскому, связанному с патриотическими польскими организациями. Это он подсказал название и идею «Соединенных славян». Нигде пропаганда общности славян и федеративного всеславянского государства не велась так настойчиво, как среди поляков. Нигде в других краях, лозунг Соединенных славян, провозглашавший независимость каждой страны, не насаждается ими с таким старанием, как в Малой Руси.
В 1818 году основывается в Киеве масонская ложа «Соединенных славян», а через четверть века в Киеве же «Кирилло-Мефодиевское братство», поставившее во главу угла своей программы все то же славянское федеративное государство. Даже во второй половине XIX века идеей всеславянской федерации увлекался Драгоманов. И нигде, кроме Малороссии, не видим столь ясно выраженного польского влияния и польской опеки в отношении подобных организаций. Так, надпись «Jednosc Slowianska», украшавшая знак ложи «Соединенных славян», не оставляет сомнений в польском ее происхождении. Основателям и первым ее правителем был поляк Валентин Росцишевский, управляющим мастером — другой поляк Франц Харлинский, а в числе членов — Иосиф Проскура, Шимановский, Феликс Росцишевский и многие Другие местные помещики-поляки. А. Н. Пыпин и последующие историки считают эту ложу идейной матерью одноименного декабристского общества, хотя прямой связи между ними не установлено.
Существовали в Малороссии другие масонские организации, инспирированные или прямо созданные поляками. Была в Житомире ложа «Рассеянного мрака» и ложа «Тамплиеров», в Полтаве — ложа «Любовь к истине», в Киеве — «Польское патриотическое общество», возникшее в 1822 году, и тотчас же, как эхо, появившееся вслед за ним «Общество малороссов», состоявшее из поборников автономизма. «Где восходит солнце?» — гласил его пароль, и ответ: «В Чигирине».
Из дел следственной комиссии о декабристах видно, что резиденцией «Общества малороссов» был Борисполь, а «большая часть членов оного находятся в Черниговской губернии, а некоторые в самом Чернигове». М.П. Бестужев-Рюмин не очень выгодно о них отзывается: руководитель общества В. Л. Лукашевич «нравственности весьма дурной, в губернии презираем, и я слышал, что общество его составлено из людей его свойства». Это тот самый Лукашевич, что поднимал когда-то бокал за победу Наполеона над Россией. Он был одной из самых деятельных фигур в декабристско-малороесийско-польских взаимоотношениях. Кроме «Союза благоденствия» и «Малороссийского общества» мы его видим в ложе «Соединенные славян», в полтавской ложе «Любовь к истине», и говорили также, о его членстве в польских ложах.
Масонские ложи признаны были, по-видимому, наиболее удобный формой встреч и единения двух российских фронд — декабристской и украинствующей.
Декабристы, можно сказать, стояли у власти на Украине. Генерал-губернатором малороссийским был в то время князь Н. Г. Репнин — брат видного декабриста С.Г.Волконского и сам большой либерал. Стремясь быть «отцом» вверенного ему края и в то же время человеком «новых веяний», он приглашал к себе в дом людей свободомыслящих, среди которых первое место занимали члены декабристских южных обществ. У него можно было встретить и Пестеля, и Орлова, и Бестужева-Рюмина. Но к числу свободомыслящих он относил также людей, «свободомыслие» которых вызывалось незакончившейся к тому времени проверкой дворянских прав. Эти стародубские и лубенские маркизы Позы постоянно вертелись при генерал-губернаторском дворе, который до известной степени может рассматриваться как один из центров «возрождения» украинского сепаратизма.
Дочь князя Репнина Варвара Николаевна, благоговевшая перед подвигом своего дяди С. Г.Волконского и насквозь проникнутая духом декабризма, была в то же время почитательницей и покровительницей Тараса Шевченко. На этом примере видно, как российский космополитический либерализм преображался на украинской почве в местный автономизм. Декабристы первые отождествили свое дело с украинизмом и создали традицию для всего последующего русского революционного движения. Герцен и Огарев подражали им, Бакунин на весь мир провозгласил требование Польши, Финляндии и Малороссии, а петрашевцы, при всей неясности и неопределенности их плана преобразования России, тоже успели подчеркнуть свой союз с сепаратизмами, в том числе с малороссийским. Это одна из закономерностей всякого революционного движения. В. А. Маклаков, один из лидеров демократического лагеря, находясь уже в эмиграции, выразил это так: «Если освободительное движение в войне против самодержавия искало всюду союзников, если его тактикой было раздувать всякое недовольство, как бы оно ни могло стать опасным для государства, то можем ли мы удивляться, что для этой цели и по этим мотивам оно привлекло к общему делу и недовольство «национальных меньшинств ?»
Только немногим удалось устоять против этой логики, и первым среди них надо назвать Пушкина. Он тоже был «декабристом» и лишь случайно не попал на Сенатскую площадь. «История русов» была ему отлично знакома. Он напечатал отрывок из нее в своем «Современнике», но он не поставил дела Мазепы выше дела Петра и не воспел ни одного запорожца как борца за свободу. Произошло это не в силу отступничества от увлечений своей молодости и от перемены взглядов, а оттого, что Пушкин с самого начала оказался проницательнее Рылеева и всего своего поколения. Он почувствовал истинный дух «Истории русов», ее не национальную украинскую, а сословно-помещичью сущность. Теперь, когда нам известны вполне корыстные интересы, вызвавшие рецидив казачьих страстей, породивших «Историю русов», можно только удивляться прозорливости Пушкина.
Революционная русская интеллигенция в своем отношении к сепаратизму пошла путем не Пушкина, а Рылеева. «Украинофильство», под которым разумелась любовь не к народу малороссийскому, а к казацкой фронде, сделалось обязательным признаком русского освободительного движения. В развитии украинского сепаратизма оно было заинтересовано больше самих сепаратистов.
Казакомания Тараса Шевченко
При всем обилии легенд, облепивших имя и исказивших его облик, Шевченко может считаться наиболее ярким воплощением всех характерных черт того явления, которое именуется «украинским национальным возрождением». Два лагеря, внешне враждебные друг другу, до сих пор считают его «своим». Для одних он — «национальный пророк», причисленный чуть ли не к лику святых, дни его рождения и смерти (25 и 26 февраля) объявлены украинским духовенством церковными праздниками. Даже в эмиграции ему воздвигаются памятники при содействии партий и правительств Канады и США. Для других он предмет такого же идолопоклонства, и этот другой лагерь гораздо раньше начал ставить ему памятники. Как только большевики пришли к власти и учредили культ своих предтеч и героев — статуя Шевченко в числе первых появилась в Петербурге. Позднее в Харькове и над Днепром возникли гигантские монументы, величиной уступающие разве только статуям Сталина. Ни в России, ни за границей ни один поэт не удостоился такого увековечения памяти. «Великий украинский поэт, революционер и мыслитель, идейный соратник русских революционных демократов, основоположник революционно — демократического направления в истории украинской общественной мысли» — такова его официальная аттестация в советских словарях, справочниках и энциклопедиях. Она унаследована еще от подпольного периода революции, когда у всех интеллигентских партий и направлений он считался певцом «народного гнева».
Даже произведения его толкуются в каждам лагере по-своему. «Заповит», например, расценивался в свое время в русском подполье как некий революционный гимн. Призыв поэта к потомкам — восстать, порвать цепи и «вражьею злою кровью волю окропити» понимался там как социальная революция, а под злой кровью — кровь помещиков и классовых угнетателей.
Совсем иную трактовку дает самостийнический лагерь. В 1945 году, в столетнюю годовщину со дня написания «Заповита», он отметил его появление как величайшую веху в развитии национальной идеи, как призыв к национальной розни, ибо «кров ворожа», которую Днепр «поносе
[несколько предложений потеряны из-за брака верстки выжимки]
чай переплетения у «великого кобзаря» черт русской революционности с украинским национализмом.
Из Академии Художеств Шевченко вынес только поверхностное знакомство с античной мифологией, необходимой для живописца, да с некоторыми знаменитыми эпизодами из римской истории. Никакими систематическими знаниями не обладил, никакого цельного взгляда на жизнь не выработал. Он не стремился даже в противоположность многим выходцам из простого народа восполнять отсутствие школы самообразованием. По словам близко знавшего его скульптора Микешина, Тарас Григорьевич не шибко жаловал книгу. «Российскую общую историю,- пишет Микешин,- Тарас Григорьевич знал очень поверхностно, общих выводов из нее делать не мог; многие ясные и общеизвестные факты или отрицал или не желал принимать во внимание; этим оберегалась его исключительность и непосредственность отношений ко всему малорусскому». Некоторых авторов, о которых писал, он и в руки не брал, как, например, Шафарика и Ганку.
Видный социалист и украинофильский деятель М. П. Драгоманов не признавал и его хождения в народ, и пропаганды на Подоле, в Кириловке и под Каневом, о которой сейчас пишут в каждой биографии поэта советские историки литературы, но которая сплошь основана на домыслах. Кроме казацких речей о Божией Матери, никаких образцов его пропаганды не знаем.
Дворовой человек, чье детство и молодость прошли в унизительной роли казачка в барском доме, не мог, конечно, питать теплых чувств к крепостному строю. Но совершенно ошибочно делать из него на основании этих биографических фактов сознательного борца против крепостного права. Ничего похожего на некрасовскую «Забытую деревню» или на «Размышления у парадного подъезда» невозможно у него найти. Тарасу Григорьевичу суждено было дожить до освобождения крестьян. Начиная с 1856 года вся Россия только и говорила что об этом освобождении, друзья Шевченко, кирилло-мефодиевцы, ликовали; один он, бывший крепостной, не оставил нам ни в стихах, ни в прозе выражения своей радости.
Не было у Шевченко и связей с русскими революционными демократами. Его причастность к Кирилло-Мефодиевскому Братству, послужившая причиной ареста и ссылки была более случайной, чем причастность Достоевского к кружку петрашевцев.
Но если не социалист и не «революционный демократ», то гайдамак и пугачевец глубоко сидели в Шевченко. Он воспитался на декабристской традиции, называл декабристов не иначе, как «святыми мучениками», но воспринял из якобинизм не в идейном, а в эмоциональном плане. Не в трактатах Пестеля и Никиты Муравьева, а в «цареубийственных» стихах Рылеева и Бестужева увидел он свой декабризм.
Уж как первый-то нож
На бояр, на вельмож,
А второй-то нож
На попов, на святош,
И молитву сотворя,
Третий нож на царя!
В этом плане и воздавал он дань своим предшественникам.
… А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить;
Та добре выгострить сокиру —
Та и заходиться еже будить.
Особенно сильно звучит у него нота «На царя ! «
Царів, кровавих шинкарів,
У пута кутіі окуй,
В склепу глибокім замуруй.
На кого, кроме царей, направлялась ненависть Шевченко? Для всякого, кто дал себе труд прочесть «Кобзарь», всякие сомнения отпадают — на москалей. Даже в чисто любовных сюжетах, где украинская девушка страдает, будучи обманута, обманщиком всегда выступает москаль.
Кохайтеся чернобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Жалуясь Основьяненко на свое петербургское житье («круком чужі люди»), он вздыхает: «тяжко, батько, жити с ворогами». Это про Петербург, выкупивший его из неволи, давший образование, приобщивший к культурной среде и вызволивший его впоследствии из ссылки.
Друзья давно пытались смягчить эту его черту в глазах русского общества. Первый его биограф М. Чалый объяснял все влиянием польской швеи — юношеской любви Шевченко, но вряд ли такое объяснение можно принять. Антирусизм автора «3аповіта» не от жизни и личных переживаний, а от книги, от национально-политической проповеди. Образ москаля, лихого человека, взят целиком со страниц старой казацкой письменности.
В 1858 году, возмущаясь Иваном Асаковым, забывшим упомянуть в числе славянских народов украинцев, он не находит других выражений, кроме как: «Мы же им такие близкие родичи: как наш батько горел, то их батько руки грел»! Даже археологические раскопки на юге России представлялись ему грабежом Украины — поисками казацких кладов.
Могилки вже розривають,
Та грошей шукають !
Сданный в солдаты и отправленный за Урал, Тарас Григорьевич, по словам Драгоманова, «живучи среди москалей солдатиков, таких же мужиков, таких же невольников, как он сам — не дал нам ни одной картины доброго сердца того «маскаля», какие мы видим у других ссыльных…. Москаль для него и в 1860 году — только «пройдисвіт», как и в 1840 году был только «чужий чоловік».
Откуда такай русофобия? Личной судьбой Шевченко она во всяком случае, не объяснима. Объяснение в его поэзии. Чтобы ни говорили советские литературоведы, лира Шевченко, не «гражданская» в том смысле, в каком это принято у нас. Она глубоко ностальгична и безутешна в своей скорби о невозвратном прошлом.
Де поділось козачество,
Червоні жупани ?
Де поділась доля-воля,
Бунчуки, гетмани?
Вот истинная причина «недоли». Исчез золотой век Украины, ее идеальный государственный строй, уничтожена казачья сила. «А що то за люди були тіі запорожці ! Не було й не буде таких людей!» Полжизни готов он отдать, лишь бы забыть их «незабутні» дела. Волшебные времена Палиев, Гамалиев, Сагайдачных владеют его душой и воображением. Истинная поэзия Шевченко — в этом фантастическом, никогда не бывшем мире, в котором нет исторической правды, но создана правда художественная. Все его остальные стихи и поэмы, вместе взятые, не стоят тех строк, где он бредит старинными степями, Днепром, морем, бесчисленным запорожским войском, проходящим, как видение.
О будущем своего края Тарас Григорьевич почти не думал. Раз как-то, следуя шестидесятнической моде, упомянул о Вашингтоне, которого «дождемся таки колись», но втайне никакого устройства, кроме прежнего казачьего, не хотел.
Оживуть гетмани в зопотім жупані;
Прокинеться дом; козак заспіва:
«Ні жида, ні ляха «, а в степах Украіни —
О Боже мій милий — блисне булава!
Перед нами певец отошедшей казачьей эпохи, влюбленный в ней, как Дон Кихот в рыцарские времена. До самой смерти героем и предметом поклонения его был казак.
Надо ли после этого искать причин русофобии? Всякое пролитие слез над руинами Чигирина, Батурина и прочих гетманских резиденций неотделимо от ненависти к тем, кто обратил их в развалины. Любовь к казачеству — оборотная сторона вражды к Москве.
Но и любовь и ненависть эти — не от жизни, не от современности. Поэт очень .рано, в самом начале своего творчества попал в плен к старой казачьей идеологии. По словам Кулиша, он пострадал от той первоначальной школы, «в которой получил то, что в нем можно было назвать faute de mieux образованием». По словам Драгоманова ни одна книга, кроме Библии, не производила на Тараса Григорьевича такого впечатления, как «История русов». Он брал из нее целые картины и сюжеты: Даже на самый чувствительный для него вопрос о крепостном праве на Украине, «летопись» давала свой ответ — она приписывала введение его москалям. Не один Шевченко, а все кирилло-мефодиевцы вынесли из нее твердое убеждение в москальском происхождении крепостничества. В «Книгах бытия украинского Народа» Костомаров писал: «А Німка цариця Катерина, курва всесвітная, безбожниця, убійниця мужа своего, востание доконала козацтво і волю, бо одібравши тих, котри були в Україні старшими, наділила іх панством і землями, понадовала ім вільну братію в ярмо і поробила одних панами, а других невольниками». Если будущий ученый историк позволял себе такие речи, то что можно требовать от необразованного Шевченко? Москали для него стали источником всех бедствий.
Ляхи були — усе взяли,
Кров повипивали,
А москалі й світ Божий
В путо закували.
Во всей эпопее Хмельнитчины Шевченко видел только печальный факт присоединения к Москве. Всенародного требования воссоединения с Россией он знать не хотел.
«Национальным поэтом» Шевченко объявлен не потому, что писал по-малороссийски и не потому, что выражал глубины народного духа. Этого как раз и не видим. Три четверти стихов и поэм его подражательны, безвкусны, провинциальны. Кулиш когда-то писал: если «само общество явилось бы на току критики с лопатою в руках, она собрало бы небольшое, весьма небольшое количество стихов Шевченко в житницу свою; остальное было бы в его глазах не лучше сору, его же возметает ветер от лица земли».
Многие до и после Шевченко писали по-украински, часто лучше его, но только он признан пророком. Причина: он первый воскресил казачью ненависть к Москве и первый воспел казачьи времена как национальные.
Идеология Кирилло-Мефодиевского братства
Слово «организация» плохо вяжется с маленьким кружком, известным под именем «Кирилло-Мефодиевского братства», возникшем в Киеве при университете Св. Владимира в 1846 — 1847 годах. Он не успел ни организоваться, ни начать действовать, как был ликвидирован полицией, усмотревшей в нем революционное общество вроде декабристского. Идеи насильственного ниспровержения государственного строя у его членов не было, но успели выработаться кое-какие взгляды на будущее устройство России и всех славянских стран. Это устройство представлялось на манер древних вечевых княжеств — Новгорода и Пскова. В бумагах Костомарова, самого восторженного из членов братства, сохранилась запись: «Славянские народы воспрянут от дремоты своей, соединятся, соберутся со всех концов земель своих в Киев, столицу славянского племени, и представители всех племен, воскресших из настоящего унижения, освободятся от чужих цепей, воссядут на горах (киевских) и загремит вечевой колокол у Св. Софии, суд, правда и равенство воцарятся. Вот судьба нашего племени, его, будущая история, связанная тесно с Киевом». «Матери городов русских» предстояла роль матери всех славянских городов.
Не трудно в этом отрывке уловить все тот же мотив «Соединенных славян», звучащий в названиях одного из декабристских обществ и киевской масонской ложи. При этом не обязательно предполагать, как это часто делают, идейную преемственность между декабристами и кирилло-мефодиевцами. Гораздо вернее допустить, что те и другие имели общего учителя панславизма в лице поляков. Недаром «Книги бытия украинского народа», написанные Костомаровым как некое подобие «платформы» братства, хранят на себе ясный след влияния «Книг польского народа и польского пилигримства» Мицкевича. Кроме того, во время их написания в 1846 году Костомаров часто встречался с поляком Зеновичем — бывшим профессором Кременецкого лицея, рассадника польского национализма, 3енович был ревностным поборником идеи всеславянского государства.
Главные принципы Кирилло-Мефодиевского кружка давно выяснены и сформулированы. Напомним, что Малороссия мыслилась в числе независимых славянских стран «как равная с равными» и: даже чем-то вроде лидера федерации. Независимая украинская государственность основывалась, таким образом, на европейском демократическом мировоззрении. На этом же строилась «внутренняя» политика.
Если не считать довольно бледных Гулака и Белозербкого, то самыми видными фигурами Кирилло-Мефодиевского братства были Шевченко, Кулиш и Костомаров. Шевченко «видным» был больше как поэт, чем как член братства, с которым был очень слабо связан. Вдохновителем, «теоретиком» и душой всей группы был Костомаров — молодой в то время профессор истории киевского университета. До восемнадцати лет будущий украинский патриот не знал даже малороссийского, языка. По крови он был полувеликорус-полумалорус. Отец его, воронежский помещик, был русским, но мать — украинка и происходила из крепостных. Костомаров сам рассказывает, как отец его, будучи уже пожилым человеком, облюбовал себя из числа своей дворни жену, бывшую в то время маленькой девочкой, отправил ее в Петербург учиться, поместил в институт для благородных девиц, и, когда она по окончании его вернулась образованной, воспитанной барышней, женился, на ней. Будущий историк, таким образом, родился и, вырос в семье совершенно русской по духу и по культуре. Малороссийские симпатии появились у него в Харькове по окончании университета и внушены были главным образом И. И. Срезневским, тоже великорусом, увлекшимся собиранием украинской народной поэзии и выпустившим в 30-х годах свои знаменитые «Запорожские древности». «Мною овладела какая-то страсть ко всему малороссийскому,- признавался Костомаров. — Я вздумал писать по-малорусски, но как писать? Нужно учиться у народа, сблизиться с ним. И вот я стал заговаривать с хохлами, ходил на вечерницы и стал собирать песни».
Но была еще одна причина любви его к малороссийскому народу-старинное его общественное устройство, совпадавшее с демократически-республиканскими идеалами историка. Казачество представлялось той республикой, к которой так лежало сердце будущего кирилломефодиевца. Распространение его устройства на всю Украину представлялось ему величайшим прогрессом и благодеянием для народа. «Незабаром були б на Вкраіні усі козаки, усі вільні і рівні, і не мала б Украіна над собою ні царя, ні пана, опричь Бога единого, і дивлячись на Украіну так бы зробилось і в Польщі, а там і в других словянських краях». Сильного соперника казачество имело только в лице Господина Великого Новгорода. Перед этой древнерусской республикой Костомаров благоговел настолько, что когда его после следствия по делу кирилломефодиевцев отправляли из Петербурга в ссылку, он, проезжая мимо Новгорода и завидев издали купола св. Софии, встал в коляске, снял шляпу и разразился такими шумными приветствиями древней колыбели народоправства, что сидевший с ним рядом жандарм пригрозил вернуть его снова в Третье Отделение, если он не сядет и не перестанет витийствовать.
Костомаров разрывался в своей любви между Новгородом и Украиной, и трудно сказать, кого из них любил больше. Причиной, по которой его республиканско-демократические мечтания вылились в украинофильские формы, были все те же легенды и летописи казачества, «Открывшие глаза» историку На запорожский республиканизм».
Еще раз надо вспомнить и юный возраст кирилломефо-диевцев, и романтизм, породивший повальное увлечение этнографией, филологией, историей, вспомнить полную неизученность украинской истории, чтобы понять, почему даже такие люди, как Костомаров, составившие себе впоследствии ученое имя, попали в плен к фальсифицированное истории. Человек пылкий, увлекающийся, он всей душой принялся служить тому писанию, в которое уверовал. Все эти ранние статьи Костомарова написаны без достаточного знакомства с предметом и совершенно не аргументированы. Порой кажется, что их писал не историк. Первое глубокое погружение в исторические источники произошло в 50-х годах, когда он начал работать над историей Богдана Хмельницкого, и он медленно освобождается от духовного плена «Истории русов». Окончательно освободился только под конец жизни. Демократом и народолюбцем остался навсегда, но занятия малороссийской историей произвели в его украинско-националистических воззрениях целый переворот. Хищные крепостнические устремления казачества открылись ему в полной мере, и мы уже не слышим под конец жизни историка восторженных гимнов запорожскому лыцарству. Ясна стала несправедливость и нападок на Екатерину II, как главную виновницу закрепощения украинского крестьянства. Под конец Костомаров вынужден был назвать «Историю русов» «вредным» произведением. Вытаскивая из своего ученого мышления одну за другой занозы, вонзившиеся туда в молодости, Костомаров незаметно для себя ощипал все своё национально-украинское оперение. Оставшись украинцем до самой смерти, он, тем не менее, подверг очень многое строгой ревизии. Даже царь Московский перестает быть «идолом и мучителем». В 1882 г. в статье «Задачи украинофильства» он упоминает о царе в совсем ином тоне: «Малорус верен своему царю, всей душой предан государству; его, патриотическое чувство отзывчиво и радостью и скорбью к славе и к потерям русской державы ни на волос не менее великоруса, но в своей домашней жизни, в своем селе или хуторе, он свято хранит заветы предковской жизни, все ее обычаи и приемы, и всякое посягательство на эту домашнюю святыню будет для него тяжелым незаслуженным оскорблением». Под старость он перестает приписывать малороссам несуществующую у них враждебность к единому российскому государству, перестает возбуждать и натравливать их на него. Политический национализм представляется ему отныне делом антинародным, разрушающим и коверкающим духовный облик народа. Таковы, например его высказывания против упорного стремления некоторых кругов искусственно создать новый литературный язык на Украине.
Сходную с Костомаровым эволюцию совершил Пантелеймон Александрович Кулиш. Правда, взгляды его излагать очень трудно по причине непостоянства. Он часто и круто менял свои точки зрения на украинский вопрос. Зато в государственно — политических воззрениях оставался более или менее тверд: подобно прочим кирилломефодиевцам никогда не отрекался от республиканско — федералистических убеждений.
Так же, как Костомаров, он начал с этнографии, с увлечения народной поэзией, и первоначально его украинство мало чем отличалось, от украинства Метлинского или Максимовича. Кирилло-мефодиевская идеология отразилась впервые а его «Повести об украинском народе», напечатанной в 1846 году. Это «вольный» очерк истории Украины, с ясно проступающей мыслью, что она могла бы быть в прошлом самостоятельной, если бы не измена малороссийского дворянства и не московское владычество.
К этому же времени относятся антирусские выпады в духе «Истории русов», обвинение имперского правительства во введении «неслыханного в Малороссии закрепощения свободных поселян», в бесчисленных притеснениях простого народа, в грабеже земель, во «введении, в малороссийский трибунал великорусских членов».
По словам Костомарова, в 60-х годах Кулиша «считали фанатиком Малороссии, поклонником казатчины; имя его неотцепно прилипало к так называемому украинофильству». После этого происходит метаморфоза. Лет на десять он умолкает, сходит со страниц печати и только в 1874 году снова появляется. В этом году вышла первая книга его трехтомного сочинения «История воссоединения Руси». Кулиш подверг рассмотрению важнейшее событие в ее судьбе — восстание Хмельницкого и присоединение к Москве. Он поднял гору материала, перебрал и передумал прошлое своего края и, по словам того же Костомарова, «совершенно изменил свои воззрения на свое малорусское, и на прошедшее, и на современное». Широкое знакомство с источниками, критическое отношение к фальсификациям, представили ему казачество в неожиданном свете. Рыцарские доспехи, демократические тоги были совлечены с этого разбойного антигосударственного сборища.
Освободившись сам от обольщений казачьей лжи и фальши, Кулиш понял, как портит эта ложь поэзию Шевченко, которого он сравнивал некогда с Шекспиром и Вальтером Скоттом. По его словам, отвержение многого, что написано Шевченкой в его худшее время, было бы со стороны общества «актом милосердия к тени поэта».
Появился стихотворный отпор ему по поводу славы Украины. Творец «Заповіта» считал ее казацкой славой, которая никогда не «поляже». Кулиш уверял, что она «поляже», что казаки не украшение, а позор украинской истории.
Не героі правди й волі
В комиші ховались
Та з татарином дружили,
З турчином еднались.
…………
Павлюківці й Хмельничане,
Хижаки — пьяниці,
Дерли шкуру з Украіни
Як жиди з телиці,
А зідравши шкуру, мъясом
З турчином ділились,
Поки всі поля кістками
Білим покрились.
Осудил Кулиш и свою прежнюю литературную деятельность. Про «Повесть об украинском народе», где впервые ярко проявились его националистические взгляды, он выразился сурово, назвав ее «компиляцией тех шкодливых для нашего разума выдумок, которые наши летописцы выдумывали про ляхов, да тех, что наши кобзари сочиняли про жидов, для возбуждения или для забавы казакам пьяницам, да тех, которые разобраны по апокрифам старинных будто бы сказаний и по подделанным еще при наших прадедах историческим документам. Это было одно из тех утопических и фантастических сочинений без критики, из каких сшита у нас вся история борьбы Польши о Москвою».
Кулиш начал с таким же пылом ополчаться на прежних своих идолов, с каким некогда служил им. Недостаток образования, недостаток научных знаний в области отечественной истории стал в его главах величайшим пороком и преступлением, которого он не прощал националистически настроенной интеллигенции своего времени. Тон его высказываний об этой интеллигенции становится язвительным и раздражительным. Попав в начале 80-х годов в Галицию, он приходит в ужас от тамошних украинофилов, увидев тот же ложный патриотизм, основанный на псевдонауке, на фальсифицированной истории, еще в большей степени, чей в самой Украине. Деятели галицийского национального движения потрясли его своим духовным и интеллектуальным обликом. В книге «Крашанка», выпущенной в 1882 году во Львове, он откровенно пишет об этих людях, не способных «подняться до самоосуждения, будучи народом, систематически подавленным убожеством, народом, последним в цивилизации между славянскими народами».
«Преследование» украинского языка
Из предыдущих глав видно, что не только вражды правящей России к малороссийскому языку не существовало, но была определенная благожелательность. Петербургские и московские издания на украинском языке — лучшее тому свидетельство. Благожелательность эта усилилась в царствование Александра II.
Преподавание на простонародном разговорном языке было в программе Кирилло-Мефодиевского братства. Оправдывалась это соображениями культурного прогресса. Главной целью был не язык сам по себе, а мужицкая грамотность. Поднять образовательный уровень простого народа считали возможным только путем преподавания на том наречии, на котором народ говорит. Кирилло-мефодиевцы не связывали с этим намерения отделиться от общерусского литературного языка. Напротив, преподавание на своем наречии способствовало бы, по их мнению, скорейшему приобщению малоруса к литературному языку и к сокровищам общерусской культуры.
Идея преподавания на простонародном наречии — отчасти западного происхождения. Там она горячо обсуждалась и породила обширную литературу. Отголоском ее в России были учебники на тульском наречии, которые писал впоследствии Л. Н. Толстой для своей яснополянской школы. То же собиралось делать вятское земство.
В 1861 году возникла идея печатания официальных документов по-малороссийски и первым таким опытом должен был быть манифест 19 февраля об освобождении крестьян. Инициатива исходила от Кулиша и была положительно встречена на верхах. 15 марта 1861 года последовало высочайшее разрешение на перевод. Но когда перевод был сделан и через месяц представлен на утверждение Государственного совета, его не сочли возможным принять. Кулиш еще до этого имел скандальный случай перевода Библии с его знаменитым «Хай дуфае Сруль на Пана» (Да уповает Израиль на Господа). Теперь, при переводе манифеста, сказалось полное отсутствие в малороссийском языке государственно-политической терминологии. Украинофильской элите пришлось спешно ее сочинять. Сочиняли путем введения полонизмов или коверканья русских слов. В результате получилось не только языковое уродство, но и совсем непонятный малороссийскому крестьянину текст, по крайней мере менее понятный, чем обычный русский. Напечатанный впоследствии в «Киевской старине», он служил материалом для юмористики.
Но когда в 1862 году Петербургский Комитет грамотности возбуждает ходатайство о введение в народных школах Малороссии преподавания на местном наречии, оно принимается к рассмотрению и сам министр народного просвещения А.В. Головнин поддерживает его. По всей вероятности, проект этот был бы утвержден, если бы не начавшееся польское восстание, встревожившее правительство и общественные круги.
Выяснилось, что повстанцы делали ставку на малороссийский сепаратизм и на разжигание крестьянских аграрных волнений на юге России посредством агитационных брошюр и прокламаций на простонародном наречии. И тут замечено было, что некоторые украинофилы охотно сотрудничали с поляками на почве распространения таких брошюр. Найденные при обыске у польских главарей бумаги обнаружили прямые связи украинских национализма с восстанием. Едва ли не главными информаторами, раскрывшими правительству глаза на связь украинского национализма с восстанием, были сами же поляки, только не те, что готовили восстание, а другие — помещики правого берега Днепра. Сочувствуя восстанию и налаживая связи его вожаков с украинофилами, они пришли в величайшее смятение, когда узнали, что повстанцы берут курс на разжигание крестьянских бунтов на Украине. Лозунг генерала Марославского о пробуждении «нашей запоздавшей числом Хмельнитчины» был для них настоящим ударом. Пришлось выбирать между освобождением Польши и целостью своих усадеб. Они выбрали последнее.
Собрав таким путем сведения о характере украинофильства, в Петербурге решили «пресечь» крамолу. Будь это в какой-нибудь богатой политическим опытом европейской стране, вроде Франции, администрация уладила бы дело без Шума, не дав повода для разговоров и не вызывая ненужного недовольства. Но русская правящая среда такой тонкостью приемов не отличалась. Кроме циркуляров, приказов, грозных окриков, полицейских репрессий в ее инструментарии значилось никаких других средств. Проекту преподавания на малороссийском языке не дали ходу, а печатание малороссийских книг решили ограничить.
18 июля 1863 года Министр внутренних дел П.Л. Валуев обратился с «отношением» к министру народного просвещения А. В. Головнину, уведомляя его, что, с монаршего одобрения, он признал необходимым временно «впредь до соглашения с министром народного просвещения, обер-прокурором Святейшего Синода и шефом жандармов» дозволять к печати только такие произведения на малороссийском языке, «которые принадлежат к области изящной литературы», но ни книг духовного содержания, ни учебников, ни «вообще назначаемых для первоначального чтения народа» — не допускать. Это первое ограничение самим министром было названо «временным» и никаких серьезных последствий не имело — отпало на другой же год. Но оно приобрело большую славу по причине слов: «малороссийского языка не было, нет и быть не может», употребленных Валуевым. Слова эти, выхваченные из текста документа и разнесенные пропагандой по всему свету, служили как бы доказательством презрения и ненависти официальной России к украинскому языку как таковому. Большинство не только читателей, но и писавших об этом эпизоде ничего о нем, кроме этой одиозной фразы, не знало, текста документа не читало. Между тем у Валуева не только не видно презрения к малороссийскому языку, но он признает ряд малороссийских писателей, на этом языке «отличившихся более или менее замечательным талантом». Он хорошо осведомлен о спорах, ведущихся в печати, относительно возможности существования самостоятельной малороссийской литературы, но сразу же заявляет, что его интересует не эта сторона проблемы, а исключительно соображения государственной безопасности.
«В последнее время вопрос о малороссийской литературе получил иной характер, вследствие обстоятельств чисто политических, не имеющих никакого отношения к интересам собственно литературным». Прежняя малороссийская письменность была достоянием одного лишь образованного слоя, «ныне же приверженцы малороссийской народности обратили свои виды на массу непросвещенную, и те из них, которые стремятся к осуществлению своих политических замыслов, принялись под предлогом распространения грамотности и просвещения за издание книг для первоначального чтения, букварей, грамматик, географии и т.п. В числе подобных деятелей находилось множество лиц, о преступных действиях которых производилось следственное дело в особой комиссии». Министра беспокоит не распространение малороссийского слова как такового, а боязнь антиправительственной пропаганды на этом языке среди крестьян. Не следует забывать, что выступление Валуева предпринято было в самый разгар крестьянских волнений по всей России и польского восстания. Его и пугает больше всего активность поляков: «Явление это тем более прискорбно и заслуживает внимания, что оно совпадает с политическими замыслами поляков и едва ли не им обязано своим происхождением, судя по рукописям, поступившим в цензуру, и потому, что большая часть малороссийских сочинений действительно поступает от поляков».
Ни в отношении Валуева, ни в каких других высказываниях членов правительства невозможно найти враждебных чувств к малороссийскому языку. А. В. Головнин, министр народного просвещения, открыто возражал против валуевского запрета. Впоследствии, в эпоху второго указа, министерство земледелия печатало аграрные брошюры по-малороссийски, не считаясь с запретами.
Что же касается знаменитых слов о судьбах малороссийского языка, то необходимо привести полностью всю ту часть документа, в которой они фигурируют. Тогда окажется, что принадлежат они не столько Валуеву, сколько самим малороссом. Министр ссылается на затруднения, испытываемые петербургскими и киевскими цензурными комитетами, в которые поступают большинство перечисленных им книг «для народа» и учебников. Комитеты боятся их пропустит по той причине, что все обучение в малороссийских школах ведется на общерусском языке и нет еще разрешения о допущении в училищах преподавания на местном наречии. «Самый вопрос о пользе и возможности употребления в школах этого наречия не только не решен, но даже возбуждение этого вопроса принято большинством малороссиян с негодованием, часто высказывающимся в печати. Они весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нот и быть на может и что наречие их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, только испорченный, влиянием на него Польши; что общерусский язык так же понятен для малороссов, как и для великороссиян и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и в особенности поляками, так называемый украинский язык. Лиц того кружка, который усиливается доказать противное, большинство самих малороссов упрекает в сепаратистских замыслах, враждебных России и губительных для Малороссии».
Из этого отрывка видно, что выраженное в нем суждение принадлежит не самому Валуеву, а представляет резюме соответствующих высказываний «большинства малороссиян». Очевидно, что «большинство» не воспринимало правительственные запреты, как «национальное угнетение».
Валуевеский запрет продолжался недолго, но через тринадцать лет в 1876 году снова издан указ, запрещавший появление газет, духовной, общественно-политической литературы, а также концертов и театральных, представлений на украинском языке. Только исторические памятники и беллетристику можно было по-прежнему печатать невозбранно. Этому предшествовало закрытие киевского отдела Русского географического общества, считавшегося центром украинофильства.
Опять, как в случае с Валуевым, русское общество ответило на правительственное мероприятие протестами и демонстрациями. Петербургский профессор Орест Миллер плакал однажды на публичном собрании по поводу того, что «нашим южным братьям не дают Божьего слова читать на родном языке». Но, как и при Валуеве, указ 1876 года преследовал все ту же цель государственной безопасности. На этот раз паника перед призраком развала государства началась среди самих украинцев.
Появление указа связано с именем М. В. Юзефовича — большого патриота своего края и любителя народного слова. Никаким противником родного языка его нельзя представить. Он усмотрел за невинной по внешности деятельностью «культурнических» организаций, в частности «Громады», призрак отделения Малороссии от России и даже угрозу существующему строю и поднял тревогу. Он не успокоился до тех пор, пока власти не учредили в 1875 году особой комиссии по расследованию этого дела. Приглашенный в комиссию, он представил сведения о связях «грамодян» с Галицией и об участии их в польско-австрийской интриге, направленной к отторжению Малороссии.
Мы сейчас полагаем, что никакого серьезного участия в этой интриге они не принимали, но человеку того времени не так просто было в этом разобраться. Даже Драгоманов, писавший в 1873 году разъяснительные статьи в галицкой «Правда» с целью убедить галичан в полном отсутствии на Украине сепаратизма, тем более австрофильской партии, должен был признать наличие «двух-трех масок, размахивающих картонными мечами». Какие-то, пусть ничтожные по численности, элементы, связанные с галицкими деятелями, существовали среди «громадян». Знал, быть может, Юзефович об их деятельности такое, чего мы еще не знаем. В особенности напуган он был тем, что галицкая печать запестрела с некоторых пор статьями и заметками, о народном недовольстве в Малороссии и о желании её присоединиться к Австрии. Дошло до того, что там начали примеривать к Украине корону св. Стефана Угорского, заводили речи о «Киевоском Королевстве». Один из галицких деятелей Сичинский в заседаниях сейма говорил «про можливость Ukrainiam convertere политично до Австрии, як религійно до Риму». Результатом расследования было закрытие киевского, отдела Географического общества и ограничение малороссийской печати.
Несмотря на шум, поднятый вокруг Указа 1876 года, никаким ударом для украинского
[несколько предложений потеряны из-за брака верстки выжимки]
шения, листки и брошюры печатались при полном попустительстве властей. Некий Тарас Новак имел случай беседовать в 1941 году с престарелой вдовой драматурга Карпенко-Карого — Софьей Витальевной Тобилевич, вспоминавшей с восторгом о гастролях театра Кропивницкого как раз в годы «реакции». Театр встречал великолепный прием по всей России, особенно в Москве и Петербурге. Его пригласили ко двору, в Царское Село, где сам император Александр III наговорил актерам всяческих комплиментов. Когда же Кропивницкий пожаловался одному из великих князей на киевского генерал-губернатора, не допускавшего (во исполнение указа) спектаклей театра в Киеве, то великий князь успокоил: об «этом старом дураке» он поговорит с министром внутренних дел. После этого препятствий не чинилось нигде.
Хотя формально и официально все ограничения украинской печати отпали только в 1905 году, фактически они не соблюдались с самого начала. Не успели опубликовать указ, как началось постепенное его аннулирование. Сама киевская и харьковская администрация подняла вопрос перед правительством о ненужности и нецелесообразности запретов. Указ 1876 года никому кроме самодержавия вреда не принес. Для украинского движения он оказался манной небесной. Не причиняя никакого реального ущерба, давал ему Долгожданный венец мученичества.
Галицийская школа
Уже к концу прошлого столетия Галицию стали называть украинским Пьемонтом, уподобляя ее роль той, которую Сардинское королевство сыграло в объединении Италии. Несмотря на претенциозность это сравнение оказалось в какой-то степени верным. В конце 70-х годов Львов становится штаб-квартирой движения. Здесь выдаются патенты на истинное украинофильство. Широко пропагандируется идея национального тождества между галичанами и украинцами. Галицию начинают именовать не иначе, как Украиной. Сейчас, благодаря советской власти, это имя столь прочно вошло в употребление, что только историки знают о незаконности такого присвоения. Если на самой, Украине оно возникло лишь в конце XVI — начале XVII века и до самого 1917 года жило на положении прозвища, не имея надежды вытеснить историческое имя Малороссии, то в Галиции ни народ, ни власти слыхом не слыхали про Украину. Именовать ее так начала кучка интеллигентов в конце XIX века.
Несмотря на все ее усилия «Украина» и «украинец» дальше страниц партийной прессы не распространялись. Было ясно, что без чьей-то мощной поддержки чужое имя не привьется. Возникла мысль ввести его государственным путем. У кого она возникла раньше, у галицких украинцев или у австрийских чиновников — трудно сказать. Впервые термин «украинский» употреблен был в письме императора Франца Иосифа от 5 июня 1912 года парламентскому русинскому клубу в Вене. Но поднявшиеся толки, особенно в польских кругах, вынудили барона Гейнольда, министра внутренних дел, выступить с разъяснением, согласно которому термин этот употреблен случайно в результате редакционного недосмотра. После этого официальные венские круги воздерживались от повторения подобного опыта. Только в глухой Буковине, откуда вести не проникали в широкий мир, завели примерное 1911 года обычай требовать от русских богословов, кончавших семинарию, письменного обязательства: «Заявляю, что отрекаюсь от русской народности, что отныне не буду называть себя русским; лишь украинцем и только украинцем». Священникам, не подписавшим такого документа, не давали прихода.
Утвердили и узаконили за Галицией название Украины большевики в 1939 году после раздела Польши между Сталиным и Гитлером. Они еще задолго до захвата Галиции начали именовать ее «Западной Украиной», что оказалось чрезвычайно удобным сточки зрения последовавшего «воссоединения».
Но не только по именам, а и по крови, по вере, по культуре Галиция и Украина менее близки между собой, чем Украина и Белоруссия, чем Украины и Великороссия. Из всех частей старого киевского государства Галицкое княжество раньше и прочнее других подпало под иноземную власть и добрых пятьсот лет пребывало под Польшей. За эти пятьсот лет ее русская природа подвергалась величайшим насилиям и испытаниям. Ее колонизовали немецкими, мадьярскими, польскими и другими нерусскими выходцами. Особенно жестоким был их наплыв при Людовике Венгерским, когда Галиция (Червонная Русь) отдана была в управление силезскому князю Владиславу Опольскому. С тех пор в жилах галичан течет немало чужой крови. К расовым отличиям надлежит прибавить отличия религиозные. Галиция первая из древних русских земель отступила от православия и приняла унию. Наконец, язык ее совсем не тот, что в Надднепрянщине. Даже наспех созданная «литерацка мова», объявленная общеукраинской, неспособна скрыть существование двух языков, объединенных только орфографией.
Украина училась в общерусских, школах, читала русские книги и впитывала русскую образованность. Галиция училась по-польски, а потом, в ХIХ веке, по-немецки. Несмотря на сильное развитие русофильства во второй половине XIX века каждый образованный галичанин гораздо меньше имел понятия о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Гончарове, Толстом, Достоевском, чем о Мицкевиче, Словацком, Выспянском, Сенкевиче. Замечено, что даже сведения о России и Украине почерпались галичанами чаще всего из немецкой печати.
С тех пор как после раздела Польши Галиция перешла под власть Австро-Венгрии, она представляла глу6окую провинцию, где племя русинов или рутенов, как его называли австрийцы, насчитывавшее в XIX веке менее двух миллионов душ, жило вперемешку с поляками. Преобладающее, попросту говоря господствующее, положение принадлежало полякам. Они были и наиболее богатыми и наиболее образованными; представлены преимущественно помещиками, тогда как русины почти сплошь крестьяне и мещане. Драматический момент во взаимоотношениях между Русью и Польшей заключается в том, что там, где эти две народности тесно сожительствовали друг с другой, первая всегда находилась в порабощении и в подчинении у второй. Русинская народность стояла накануне полной потери своего национального обличья. Все, что было сколько-нибудь интеллигентного и просвещенного, а это было преимущественно духовенство, говорило и писало по-польски.
Для богослужебных целей имелись книги церковнославянской печати, а все запросы светского образования удовлетворялись исключительно польской литературой. Путешественники, посещавшие Галицию в 60-х годах, отмечают, что беседа в доме русинского духовенства во Львове велась не иначе, как на польском языке. И это в то время, когда в Галиции появились признаки «пробуждения» и начали говорить о создании собственного языка и литературы. Что же было в первой половине столетия, когда ни о каких национальных идеях помину небыло? Лучше всего об этом рассказывают сами галичане. Перед нами воспоминания Якова Головацкого — одного из авторов знаменитой «Русалки Днестровой» (первого литературного сборника на русинском наречии, вышедшего в 1887 году). Он происходил из семьи униатского священника и признается, что отец с матерью всегда говорили по-польски и только с детьми по-русски (то есть по-русински). Отец его читал проповеди в церкви «из тетрадок, писанных польскими буквами». Когда в церкви бывала графиня с дворскими паннами или кто-нибудь из подпанков, то отец Головацкого говорил проповедь по-польски. Самого его отец учил грамоте «по печатному букварю церковнославянской азбуки» — это называлось читать по-русски,- но писать по-русски он не научился, так как ни отец, ни дьяк не умели писать русской скорописью. Тот же Головацкий рассказывает эпизод из времени своего пребывания во львовской семинарии. Власть польского языка и польской культуры выступает в этом рассказе с предельной выразительностью. «Пасторалисты,- пишет он,- дали себя слово не говорить проповедей даже во львовских церквах иначе, только по-русски. Плешкевич первый приготовил русскую проповедь для городской церкви, но подумайте, якова (какова — К. Л.) была сила Предубеждения и обычая! Проповедник вышел, на амвон, перекрестился, сказал славянский текст и, посмотрев на интеллигентную публику, не мог произнести русского слова. Смущенный до крайности, он взял тетрадку и, заикаясь, переводил (на польский язык — К. Л.) свою проповедь и с трудом кончил оную. В семинарии решили, что во Львове нельзя говорить русских проповедей, разве в деревнях».
Русинское самосознание спало глубоким сном, и народ медленно, но неуклонно врастал в польскую народность.
Здесь не место рассказывать, как произошло его национальное пробуждение. Важно,- что это было за пробуждение? Ответ дан давно, о нем можно прочесть даже у Грушевского. Пробуждение было русское. Во всех австро-венгерских владениях, населенных осколками русского племени — в Галиции, в Буковине, в Угорской Руси- национальное возрождение понималось как возвращение к общерусскому языку и к общерусской культуре.
Затираемое поляками, венграми, румынами, немцами, население этих земель стихийно тяготело к России как к своей метрополии. Совершенно гипнотизирующее действие произвело на него движение стотысячной армии Паскевича в 1849 году, шедшей на подавление венгерского восстания. Она не только ослепила его своей мощью и окружила образ России нимбом непобедимости, но простой народ, живший в деревнях и местечках, был глубоко взволнован тем, что вся эта армада говорила на совершенно понятном, почти местном языке. Для угорских русин пришествие русских было величайшим торжеством.
Придавленные мадьярским засильем, они видели в Паскевиче своего освободителя. Среди них давно уже началось брожение против мадьяр, и один из деятелей этого движения Адольф Добрянский вынужден был даже бежать в Галицию, где его застал приход русской армии. Добрянскому удалось добиться назначения его императорским австрийским комиссаром при русской армии, в каковом звании он и прибыл к себе на родину. По его инициативе была послана в Вену депутация с изложением национальных нужд угорских русинов — с просьбой о выделении их земель в особые «столицы» с учреждением в них местной русинскою администрации и русского языка в управлении и в школе. Просили даже основать в Унгваре русскую академию. Император, напуганный венгерским восстанием и видевший в тот момент в русинах своих естественных союзников, на все отвечал согласием. Добрянский был назначен «наджупаном» (наместником) четырех «столиц», учредил русскую гимназию, завел делопроизводство на русском языке и широко повел распространение в крае русской культуры. Ни малейших колебаний в выборе между неразвитым местным наречием и русским литературным языком не существовало. Закарпатская Русь с самого начала встала на путь общерусской культуры. То же наблюдалось в более глухой, неразвитой Буковине, совсем лишенной собственной интеллигенции.
Но продолжался этот ренессанс недолго. Как только венгерское восстание кончилось, как только австрийское правительство помирилось с мадьярами и венгерская аристократия снова приобрела влияние в государственных делах, началось преследование всего русского. Сам Добрянский был устранен, а местная интеллигенция подверглась гонению.
Что касается — Галиции, то там произошло подлинное чудо. Несмотря на многовековое вытравливание всякой памяти о ее русском прошлом, несмотря на усиленную иноземную колонизацию в ней восторжествовало русофильство. Хотя там сделана была попытка разработки местного наречия, но никто иной как сам Яков Головацкий, инициатор этого дела, пришел к заключению о ненужности таких опытов при наличии развитого русского языка. Для него, как и для подавляющего большинства культурных галичан, выбор предстоял не между местным русинским наречием и русским языком, а между польским и русским. Галичанин должен был стать либо поляком, либо русским — среднего нет. Стали издаваться газеты на русском языке. Одной из них, «Слову», выпала роль столпа, вокруг которого стали собираться все «москвофилы». Редактировал ее Яков Головацкий. Разумеется, язык как этой, так и других газет оставлял многого желать с точки зрения русской грамотности, но редакторы и писатели старательно работали над овладением ею. В. Дзедзицкий выпустил брошюру «Как малороссу в один час научиться говорить: по-русски». Еще в 1866 году в «Слове» появилась статья рассматривавшая русинов и русских как один народ и доказывавшая, что между украинцами и великороссами нет никакой разницы. Вся Русь, по словам газеты, должна употреблять единый литературный русский язык. Статья эта сделалась как бы манифестом «москвофилов». Кроме Якова Головацкого к ним примыкало немало видных людей, из коих необходимо особо упомянуть Наумовича, бывшего сначала польским патриотом.
Причины, подобного тяготения к России в стране, где польское просвещение, польский язык сделало такие успехи и где интеллигентный слой людей представлен исключительно униатским духовенством, были бы необъяснимы, если бы не церковнославянский язык: Униатская церковь служила на этом языке, и он-то спас галичан от окончательной полонизации. Он постоянно напоминал о едином русском корне, о прямой преемственности русского литературного языка с языком Киевской Руси. Вот почему вожаки украинства так ненавидели и ненавидят «церковнославянщину».
Москвофилы не ограничились пропагандой русского языка и культуры, но начали проповедь полного объединения Галиции с Россией, по каковой причине их прозвали также «объединителями». Они заводили связи с русским образованным обществом, главным образом через М.П. Погодина, выпускали русские книги, издали сочинения Пушкина, а в конце 90-х годов во Львове образовалось литературное общество имени А. С. Пушкина.
Сколь велико было русофильство галичан во второй половине XIX века, свидетельствует «сам» Грушевский. Москвофильство, по его словам, «охватило почти всю тогдашнюю интеллигенцию Галиции, Буковины и закарпатской Украины». В 1893 году Драгоманов обращал внимание на факт неизменного перевеса москвофилов на всех выборах в сейм и рейхстаг. До самой войны 1914 года москвофильство пользовалось симпатиями большинства галичан, и если бы не эта мировая катастрофа, неизвестно, до каких бы размеров разрослось оно. Но аресты и избиения в начале войны, а особенно после кратковременного пребывания в Галиции русских войск, нанесли ему тяжелый удар. Русофильская интеллигенция оказалась уничтоженной. Морально ее доконала большевистская революция в России, открыто принявшая сторону самостийнического антирусского меньшинства.
Это антирусское меньшинство называлось «народовством», но, как часто бывает в политике, название не только не выражало его сущности, а было маской, скрывавшей истинный характер и цели объединения. Ни по происхождению, ни по духу, ни по роду деятельности оно не было народным и самое бытие свое получило не от народа, а от его национальных поработителей. Поляки, истинные хозяева Галиции, поняли, что полонизация галичан в условиях австрийской империи — дело нелегкое. Нашлись люди, доказавшие, что оно и ненужное. Украинизация сулила больше выгод; она не столь одиозна, как ополячивания, народ легче на нее подается, а сделавшись украинцем — уже не будет русский.
В этом духе началась обработка венского правительства, которому идея украинизации нравилась тем, что позволяла перейти из оборонительного положения в наступательное.
Обрусение галичан чревато было опасностью отделения края, украинизация не только не несла такой опасности, но сама могла послужить орудием отторжения Украины от России и присоединения ее к Галиции. Полагали, что хорошей приманкой в этом отношении станет конституция 1868 года, по которой все населяющие австрийскую империю национальности получали равноправие и культурную автономию. Галичанам ставилась задача: прельстить Украину этой конституцией. «Русско-украинское слово,- писал львовский профессор О. Огоневский,- замолкло в южной России и пользуется мирным приютом только в монархии австро-венгерской, где конституция дает отдельным народностям свободу оберегать исконные народные права». Как только польский план в Вене получил санкцию, в Галиции тотчас возникла «народная» партия в противовес «объединителям» (москвофилам) и целый вспомогательный аппарат в лице общества «Просвита», газет «Правда», «Дило», «Зоря», «Батькивщина» и многих других.
Ядро и основу «народной» партии составило униатское духовенство. Церковное влияние представлялось львовским «диячам» важнейшим политическим рычагом. В продолжение второй половины XIX века в Галиции шла деятельная работа по перестройке унии на латинское католичество. Возникшая в XVI веке как ступень перехода от православия в католицизм, она теперь, через триста лет, собиралась как бы завершить предназначенную ей миссию. Само собой разумеется, что государственно — краевая польская власть всемерно этому содействовала. Дошло до открытой передачи одного униатского монастыря в ведение иезуитов.
Народовцы объявили себя выразителями не одних галицких чаяний, но буковинских, карпаторусских и надднепрянских. Если в Киеве носились с идеей объединения всех славян, в том числе русских, то во Львове это означало государственное преступление, грозившее развалом цесарской империи. Вместо славянской федерации здесь говорили о всеукраинском объединении. Практически это означало соединение Украины с Галицией. Мыслилось оно не на республиканской основе: народовцы были добрые подданные своего императора и никакой другой власти не хотели.
По словам Драгоманова, народовская партия «не только мирилась с Австро-польской правительственной системой, но сама превращалась в правительственную». Всякая тень агитации либо выпадов против Австро-Венгрии и Польши устранялась из ее деятельности. Австрийским министрам никогда не писали таких «открытых писем», как адресованное русскому министру внутренних дел Сипягину и напечатанное во Львове в 1900 году «Украинская нация должна добыть себе свободу, даже если бы зашаталась вся Россия. Должна добыть свое освобождение из рабства национального и политического, хоть полилось бы реки крови» По всем высказываниям народовцев выходило, что Россия — единственный угнетатель племен «соборной Украины». Напечатав в том же 1900 году брошюру Н. Михновского «Самостийна Украина», провозглашавшего ее «от гор Карпатских аж до Кавказки», они ни словом не обмолвились о том, что для образования столь пространной державы препятствием служит не одна Россия. Элементарный политический такт требовал, чтобы для той части ее, что помещалась возле «гор Карпатских», указан был другой национальный враг. Между тем ни австрийцы, ни венгры, ни поляки в таких случаях не называлось.
Достойно внимания, что и в наши дни галицийские панукраинцы отзывающиеся с такой злобой о старой России, совершенно не упоминают Австрию в числе исторических врагов украинской культуры и незалежности. В популярных историях края вроде «Исторіі Украіни з ілюстраціями» цесарское правительство даже превозносится за учреждение школ «з Німецькою мовою навчання». Благодаря этим школам просвещение в крае сделало такие большие успехи, что «все те впливало (влияло) на культуру нашего народу, і так почалося наше національне видродження». И на той же странице яростная брань по адресу русских царей, которые «завели московський устрій, московські школи та намагались завести російську мову замість украінськоі».
Получалась картина: люди боролись не за свое собственное национальное освобождение и не с государством, их угнетавшим, а с чужим государством, угнетавшим «закордонных братьев».
Из всех ненавистников России и русского народа галицийские панукраинцы заслужили пальму первенства. Нет той брани, грязи и клеветы, которую они постеснялись бы бросить по адресу России и русских. Они точно задались целью все скверное, что было сказано во все времена о России ее врагами, сконцентрировать и возвести в квадрат. Что русские не славяне и не арийцы, а представители монголо-финского племени, среди которого составляют самую отсталую звероподобную группу, что они грязны, вшивы, ленивы, трусливы и обладают самыми низменными душевными качествами — это знает каждый галицийский самостийник с детского возраста.
В мюнхенском журнале «Слово польске» от 18 мая 1946 года появилось открытое письмо в редакцию галичанина, не пожелавшего поставить под ним своей подписи. Письмо начинается с того, что автора чуть не хватил удар, когда он прочел в одном из предыдущих номеров того же журнала сочувственные строки о взаимной симпатии и приязни между польским и русским народами. «Неужели еще в Польше никто не догадался, что этот восточный империалист, в котором так мало славянского и столько азиатского — враг польский № 1? Неужели действительно существует кто-либо в Польше, кто еще верит в дружбу или испытывает потребность дружбы с этим народом славяно-финско-монгольских бастардов?» По словам безымянного автора, лучше бы думать не о дружбе, а о том, как совместно с другими народами, пострадавшими от русских, «загнать их куда-нибудь за Урал и вообще в Азию, откуда эти приятели прибыли на несчастье человеческого рода». Автор советует полякам дружить не с русскими, а с украинцами, потому что «можно пройти весь свет и не найти двух народов более похожих друг на друга, чем польский и украинский». «Этнографическая граница между ними проходит посередине их брачного ложа». Объединяет их и общеславянская миссия как «самых чистых и самых старших представителей древней славянской культуры». К своему высокому обществу они могли бы привлечь разве только чехов. Вкупе с чехами они составили бы ядро «той чудесной коалиции, которая образуется между Балтийским морем, Адриатикой и Черным морем и которая будет достаточно мощной, чтобы держать на поводу бастардов славяно-германских (прусскаков) на западе и бастардов славяно-финско-монгольских, пруссаков востока». Чтобы не быть превратно истолкованным и не дать повода думать об антибольшевистском крестовом походе, автор поясняет: » Когда говорят антибольшевистский блок угнетенных народов, то мыслят блок антирусский. Не в большевизме суть, она лежит в другом, а именно: в опасном русском империализме, который извечно угрожал обоим нашим народам. И поэтому наша борьба должна направляться не только против большевизма, но против всякой империалистической России, России большевистской, царской, России фашистской и демократической, России панрусистской и панславистской, России буржуазной и пролетарской, России верующей неверующей… России Милюкова и России Власова, вообще против России, которая уже сама по себе синоним империализма».
Интересна здесь не злоба, пышущая, из каждой строчки, а причина злобы. Откуда она? Быть может, это результат занятия Галиции советскими войсками или короткой оккупации ее русской армией а 1914 году? Но если допустить такую версию, то чем объяснить, что вся теперешняя русофобия галичан — простое повторение того, что они писали еще в XIX веке и до первой мировой войны, когда никакой русской власти в глаза не видели и, следовательно, не имели оснований быть ею недовольными? Расизм и русофобия в том виде, в каком их исповедуют галицийскйе шовинисты, была получена в законченном виде от поляков. Истоки ее связаны с именем польского профессора Духинского.
Франциск Духинский родился в 1817 году и по происхождению был малоросс, хотя уже родители его оказались захвачены польским патриотизмом и польскими устремлениями. Выросший настоящим поляком, он с молодых лет интересовался русско-польскими отношениями. Эмигрировав, поселился в Париже, где стал профессором местной польской школы.
В 1858 — 1861 годах выпустил трехтомный «труд» под заглавием «Основы истории Польши и других славянских стран». Опус этот давно забыт и ни одним ученым всерьез не принимается. Интересен он только как документ общественно — политической мысли своего времени. Излагая взаимоотношения поляков с прочими славянскими народами в прошлом, автор наибольшее внимание уделяет Руси. Русь, по его словам, представляет простую отрасль, разновидность народа польского; у них одна душа, одна плоть, а язык русский — только диалект, провинциальное наречие польского языка. Русь — это галицкие русины и малороссы, которые только и достойны называться русским именем, тогда как современные русские присвоили это имя незаконно и в старину назывались московитами и москалями. Московскому народу даровала это имя высочайшим повелением Екатерина Вторая, запретив древнее имя «москвитян». В этом сказался как бы стыд варвара, вступившего в высшее культурное общество и захотевшего украсить себя именем благородного народа, спрятав свое хамское, дикое имя подальше. В то время как русские, то есть русины — чистые славяне, москали ничего общего со славянством не имеют. Это народ азиатский, принадлежащий не к арийской, а к туранской ветви народов. Отсюда выводятся низкие умственные и нравственные качества москалей и все ничтожество их культуры.
Для галицийских панукраинцев эта теория явилась идейной манной, на которой и возросли и которой питаются до сих пор. С распадом Австро-Венгрии Галиция была захвачена Польшей. Эта страна стала врагом № 1 и яростным угнетателем галичан. Возродились религиозные и национальные притеснения, в формах, напоминающих XVIII век. Но национальная идеология «украинского Пьемонта» осталась, как прежде, заостренной не против нее, а против Москвы. Переменить ее или преобразовать ее галичане оказались неспособны. Они пронизали ею всю свою печать, труды и учебники по украинской истории и подчинили ей систему воспитания молодого поколения. Детям самого нежного возраста внушали расово-ненавистнические взгляды на москалей, целые поколения оказались воспитанными в принципах духинщины и трумтадратства.
Не изменила их и вторая мировая война, уничтожившая снова независимую Польшу.
Национальная доктрина «украинского Пьемонта» ясна: быть украинцем, значит быть антирусским. «Если у нас идет речь об Украине, то мы должны оперировать одним словом — ненависть к ее врагам… Возрождение Украины — синоним ненависти к своей жене московке, к своим детям кацапчатам, к своим братьям и сестрам кацапам. Любить Украину значит пожертвовать кацапской родней».
Формальный национализм
К концу 70-х и в 80-х годах XIX века народился тип националиста, готового мириться с любым положением вещей, с любым режимом, лишь бы он был «свой», национальный. От этого времени тянется нить к тому эпизоду 1919 года, когда один из членов Директории на заседаний Украинской Рады заявил: «Мы готовы и на советскую власть, только бы она была украинская». Никто тогда оратору не «заперечил», и впоследствии многие видные деятели самостийничества во главе с Грушевским перешли к большевикам, удовлетворившись внешней национальной формой советской власти на Украине.
Драгоманов прозвал такой образ мыслей «формальным национализмом». Его насаждение шло параллельно с превращением украинского самостийничества в провинциальный отголосок галицкого народовства. Кто не принял запрета на антиавстрийскую и антипольскую пропаганду, не дал ясных доказательств своей русофобии, кто не поцеловал туфли львовского ультрамонтанства, тот как бы отчислялся от самостийничества. Люди нового склада, не державшиеся ни за социализм, ни за космополитизм, полуобразованные, не чувствовавшие связи старых украинофилов с русской культурой, начали целовать эту туфлю и говорить о России языком Духинского. Они поставляли ложную информацию галичанам, внушая миф о существовании проавстрийской партии на Украине. Они преисполнились боевого пыла, требовали рек русской крови, беспощадной борьбы с Московщиной.
Вождем этого поколения и наиболее последовательным выразителем формального национализма стал Михаил Сергеевич Грушевский — питомец Киевского университета, ученик профессора В. Б. Антоневича. Он сделался тем идеологом безыдейности, которого недоставало формальному национализму. Он же блестяще выполнил задачу слияния днепровского украинства со львовским народовством, будучи одинаково своим и на Украине и в Галиции. Человек он был, безусловно, талантливый, хотя вождем самостийничества его сделали не идея, не новые оригинальные лозунги, а большие тактические и маневренные способности. Только этими способностями и можно объяснить, что, переселившись в 1894 году в Галицию, он не только был там хорошо принят, но занял руководящее положение, стал председателем Наукового товарищества им. Шевченко и в течение двадцати лет оставался признанным вождем панукраинского движения.
Грушевский основал партию, которая носила название «народно-демократической». Она пошла, по его выражению, «по равнодействующей между консервативным и радикальным направлением. Это была наиболее удобная для самого Грушевского позиция. Она и на Украине и среди русской революционной интеллигенции не создала ему репутации реакционера, а в Галиции избавила от обвинений в нигилизме и социализме.
Конечно, он дал все доказательства лояльности в отношении Польши и Австрии и соответствующей ненависти к России. Особенно много клеветы и поношений России содержится в его статье «Малороссы», напечатанной в сборнике на немецком языке «Русские о России», вышедшем во Франкфурте в 1906 году.
Если враждебных выпадов его против России можно насчитать сколько угодно, то трудно привести хоть один, направленный против Австро-Венгрии. Особого внимания заслуживает отсутствие малейшего осуждения духинщины. Грушевский ни разу о нем не высказался и молчаливо принимал, тесно сотрудничая с людьми, взошедшими на дрожжах теории, которой так удачно воспользовался Альфред Розенберг. Главным делом жизни Грущевского, над которым он неустанно работал, был культурный и духовный раскол между малороосийским и русским народами. Началось с «правописа».
Русское правительство и русская общественность, не понимавшие национального вопроса и никогда им не занимавшиеся, не вникали в такие «мелочи», как алфавит, но в более искушенной Австрии давно оценили политическое значение правописания у подчиненных и неподчиненных ей славян. Ни одна письменная реформа на Балканах не проходила без ее внимательного наблюдения и участия. Считалось большие достижением добиться видоизменения хоть одной — двух букв и сделать их непохожими на буквы русского алфавита. Для этого прибегали ко всем видам воздействия, начиная с подкупа и кончая дипломатическим давлением. Варфоломей Копитар, дворцовый библиотекарь в Вене, еще в 40-х годах ХIХ века работал над планом мирной агрессии в отношении России. Он ставил задачей, чтобы каждая деревня там писала по-своему. Вот почему в Галиции возникла мысль заменить русскую азбуку фонетической транскрипцией. Уже в 70-х годах ряд книг и журналов печатались таким образом.
Фонетическая транскрипция употребляется обычно либо в научно — исследовательской работе, либо в преподавании языков, но ни один народ в Европе не заменял ею своего исторически сложившегося алфавита. В 1895 году Наукове товариство им. Шевченко ходатайствует в Вене о введении фонетической орфографии в печатни в школьном преподавании. Мотивировка ходатайства была такова, что заранее обеспечивала успех: Галиции и лучше и безопаснее не пользоваться тем самым правописанием, каков принято в России.
Москвофильская партия, представлявшая большинство галицийского населения, подняла шумный протест, требуя сохранения прежней орфографии. Но венское правительство знало, что ему выгоднее. Победило народовское меньшинство и с 1895 года в Галиции и Буковине министерство народного просвещения официально ввело «фонетику».
Правописание, впрочем, не главная из реформ, задуманных Науковым товариством. Вопрос стоял о создании заново всего языка. Он был камнем преткновения самых пылких националистических страстей и устремлений. Как в России, так и в Австрии самостийническая интеллигенция воспитана была на образованности русской, польской, немецкой и на их языках. Единого украинского языка, даже разговорного, не существовало. Были говоры, порой очень сильно отличавшиеся друг от друга, так что жители отдельных частей соборной Украины не понимали один другого.
Предметом самых неустанных забот, впрочем, был не разговорный, а литературный язык. Малороссия располагала великолепным разработанным языком, занявшим в семье европейских языков одно из первых мест. Это русский язык. Самостийники злонамеренно, а иностранцы и некоторые русские по невежеству называют его «великорусским». Великорусского литературного языка не существует, если не считать народных песен, сказок и пословиц, записанных в ХVIII-XIX веке. Тот, который утвердился в канцеляриях Российской империи, на котором писала наука, основывалась пресса и создавалась художественная литература, был так же далек от разговорного великорусского языка, как и от малороссийского. И выработан он не одними великорусами, в его создании принимали не меньшее, а, может быть, большее участие малороссы. Еще при царе Алексее Михайловиче в Москве работали киевские ученые монахи Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский и другие, которым вручен был жезл литературного правления. Они много сделали для реформы и совершенствования русской письменности. Велики заслуги и белоруса Симеона Полоцкого. Чем дальше, тем больше юго-западные книжники принимают участив в формировании общерусского литературного языка — Димитрий Ростовский, Стефан Яворский, Феофан Проколович. При Петре наплыв малороссов мог навести на мысль об украинизации москалей, но никак не о русификации украинцев, на что часто жалуются самостийники.
Южно-русская письменность в XVII веке подверглась сильному влиянию Запада и восприняла много польский и латинских элементов. Все это было принесено в Москву. В свою очередь киевские книжники немало заимствовали от приказного московского языка, послужившего некоторым противоядием против латинизмов и полонизмов. Получившееся в результате языковое явление дало повод львовскому профессору Омеляну Огоновскому утверждать, будто реформаторская деятельность малороссийских книжников привела к тому, что уже «можно было не замечать никакой разницы между рутенским (украинским) и московским языками».
Еще в 1619 году вышла та грамматика этого языка, написанная украинским ученым Мелетием Смотрицким, по которой свыше полутора столетий училось и малороссийское и московское юношество, по которой учились Григорий Сковорода и Михаиле Ломоносов. Ни тому, ни другому не приходило в голову, что они обучались не своему, а чужому литературному языку. Оба сделали крупный вклад в его развитие. В Московщине и на Украине это разбитие представляло один общий процесс. Когда стала зарождаться светская поэзия и проза, у писателей тут и там не существовало иной литературной традиции, кроме той, что начинается с Нестора, с митрополита Илариона, Владимира Мономаха, Слова о полку Игореве, «житий», «посланий», той традиции, к которой относятся Максим Грек, Курбский и Грозный, Иоанн Вишенский и Исайя Ковинский, Мелетий Смотрицкий и Петр Могила, Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель с его «Синопсисом», Сильвестр Медведев и Дмитрий Ростовский. Когда Богданович писал «Душеньку», Капнист «Ябеду» и «Оду на рабство», когда Гнедич переводил «Илиаду»,- они создавали «российскую», но отнюдь не москальскую словесность. Ни Пушкин, ни Гоголь не считали свои произведения достоянием «великорусской» литературы. Как до, так и после Гоголя все наиболее выдающееся, что было на Украине, писало на общерусском литературном языке. Отказ от него означает духовное ограбление украинского народа. Полонофильствующее народовство готово было выбросить что угодно, лишь бы не пользоваться тем же языком, что Россия, а украинцы «со всхода» слишком страдали комплексом национальной неполноценность, чтобы не поддаться этому соблазну. Их не отрезвил даже пример Германии и Австрии, Франции и Бельгии, Испании и Южной Америки, чьи независимые государства существовали и существуют несмотря на общность языков.
Началось лихорадочное создание нового «письменства» на основе простонародной разговорной речи, почти сплошь сельской. Введение ее в литературу — не новость. Оно наблюдалось еще в XVII веке у киевского монаха Оксенича-Старушича, переходившего иногда в своих устных и письменных проповедях на простонародную мову. Так делал в XI веке и новгородский епископ Лука Жидята. Практиковалось это в расчете на большую понятность проповедей. «Энеида» Котляревского написана как литературный курьез, Квитка-Основьяненко, Гулак-Артемовский, Марко Вовчек — не более как «опыты», не претендовавшие на большую литературу и не отменявшие ее. Они были экзотикой и лишь в этой мере популярны. Не для отмены общерусской письменности упражнялись в сочинениях на «мове» столпы украинского возрождения — Костомаров, Кулиш, Драгоманов. У Костомарова был даже род страха перед призраком намеренно сочиненного языка. Такой язык не только задержит, по его мнению культурное развитие народа, но и души народной выражать не будет: «Наше малорусская литература есть исключительно мужицкая»,- замечает он, имея в виду Квитку, Гулака-Артемовского, Марко Вовчка. И «чем по языку ближе малороссийские писатели будут к простому народу, чем менее станут от него отдаляться, тем успех их в будущем будет вернее». Когда же на язык Квитки и Шевченко начинают переводить Шекспиров, Байронов, Мицкевичей — это «гордыня» и бесполезное занятие. Для перевода этих авторов не хватает в его языке ни слов, ни оборотов речи. Их нужно Заново создавать. К такому — же Обильному сочинительству слов должны прибегать и авторы, что желают писать по-малороссийски для высокоразвитого образованного читателя. В этом случае отступление от народного языка, его искажение и умерщвление неизбежно. «Любя малорусское слово и сочувствуя его развитию,- заявляет Костомаров, — мы не можем однако, не выразить нашего несогласия со взглядом, господствующий, как видно, у некоторых малорусских писателей. Они думают, что при недостаточности способов для выражения высших понятий и предметов культурного мира надлежит для успеха родной словесности, вымышлять слова и обороты и тем обогащать язык и литературу. У пишущего на простонародном наречии такой взгляд обличает гордыню, часто суетную и неуместную. Создавать новые слова и обороты — вовсе не безделица, если только их создавать с надеждою, что народ введет их в употребление. Такое создание всегда почти было достоянием великих дарований, как это можно проследить на ходе русской-литературы. Много новых слов и оборотов вошли во всеобщее употребление, но они почти всегда появлялись вначале на страницах наших наилучших писателей, которых произведения и по своему содержанию оставили по себе бессмертную память. Так много слов и оборотов созданы Ломоносовым, Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Гоголем … Но что сталось с такими на живую нитку измышленным словами как «макроступы», «шарокатаща», «краткоодежие», «четвероплясие» и т.п.? Ничего кроме позорного бессмертия, как образчика неудачных попыток бездарностей. С сожалением должны мы признаться, что современное малорусское писательство стало страдать именно этой болезнью, и это тем прискорбнее, что в прежние годы малорусская литература была чиста от такой укоризны».
Вместе с вопросом о языке поднимался вопрос и о литературе. Разделить их невозможно. Раздельность существовала лишь в точках зрения на этот предмет между малороссийским украинофильством и галицким народовством. У первого назначение книг на «родной мове» заключалось в просвещении простого народа, либо в революционной пропаганде среди крестьян. Поколение же, выпестованное народовцами, усматривает его не в плоскости культуры, а в затруднении общения между русскими и малороссами.
Костомаров и Драгоманов требовали предоставить язык и литературу самим себе; найдутся писатели и читатели на «мове» — она сама завоюет себе место, но никакая регламентация и давление извне недопустимы. Драгоманов часто говорил, что пока украинская литература будет представлена бездарными Конисскими или Левицкими, она неспособна будет вырвать из рук малороссийского читателя не только Тургенева и Достоевского, но даже Боборыкина и Михайлова. Культурное отмежевание от России как самоцель представлялось ему варварством.
Но уже вначале 90-х годов появляются публицисты типа Вартового, который, обозвав русскую литературу «шматом гнилой ковбасы», требовал полной изоляции Украины от русской культуры. Всех, считавших Пушкина, Гоголя, Достоевского «своими» писателями, он объявил врагами. «Каждый, кто принесет хоть чуточку омоскаления в наш народ (словом из уст или книжкой), наносит ему вред, так как отвращает от национальной почвы».
Напрасно думать, будто этот бандеровец того времени выражал одни свои личные чувства. То же самое, только гладко и благовоспитанно, выражено Грушевским в провозглашенном им лозунге «полноты украинской культуры», что означало политику культурной автаркии и наступление литературной эры, представленной Конисским и Левицким-Нечуем. Именно этим двум писателям, пользовавшимся у своих товарищей репутацией самых бездарных, приписывается идея «окремой» литературы. Писать по-украински с тех пор означало не просто предаваться творчеству, а выполнять национальную миссию.
В конце 80-х годов галицкая наука возвестила о существовании многовековой украинской литературы. Появился двухтомный труд, посвященный этому предмету. Автор его Омеляц Огоновский может считаться создателем схемы истории украинской литературы. Ею до сих пор руководствуются самостийнические литературоведы, по ней строятся курсы, учебники, хрестоматии.
Затруднение Огоновского, как и всех прочих ученых его типа, заключается в полном разрыве между новой украинской литературой и литературой киевских времен, объявленной самостийниками, тоже украинской. Эти две разные письменности ни по духу, ни по мотивам, ни по традициям ничего общего между собой не имеют. Объединить их, установить между ними преемственность, провести какую-нибудь нить от «Слои о полку Игореве» к Квитке Основьянвнке, к Марко Вовчку или от игумена Даниила, митрополита Илариона и Кирилла Туровского к Тарасу Шевченко — совершенно невозможно. Нельзя в то же время не заметить доступную даже неученому глазу прямую генетическую связь между письменностью киевского государства и позднейшей. общерусской литературой. Как уладить эти две крупные неприятности? Отказаться совсем от древнекиевского литературного наследства значит отдать его окончательно москалям. Это значило бы отказаться и от пышной родословной, от великодержавия; Владимира, Ярослава, Мономаха пришлось бы вычеркнуть из числа своих предков и остаться с одними Подковами, Кошками и Наливайками. Но принять киевское наследство и превознести его — тоже опасно. Тогда непременно возник бы вопрос — откуда взялся украинский литературный язык XIX века и почему он находится в таком противоречии с эволюцией древнего языка?
Огоновский разрешил эти трудности таким образов, что от древнего наследия не отказался, признал киевскую литературу «украинской», но объявил ее неполноценной, «мертвой», ненародной и потому ненужной украинскому народу. Он так и говорит: «До Ивана Котляровского письменная литература не была народною, потому что развитию ее препятствовали три элемента: во-первых, церковнославянская византийщина, затем польская культура со средневековой схоластической наукой и, наконец, образовательное иго московского царства».
Мы уже имели случай указывать на нелюбовь Огоновского к православному византийскому влиянию на Руси, ко всей Древнерусской культуре, разбившейся на его основе. От нее «веяло холодом на молодой ум родного народа». Ценит он в киевском наследстве лишь народную поэзию — былины, песни, сказания; что же касается письменности, то всю ее за исключением «Слова е полку Игореве», считает ненужным хламом. Она развивалась, как он выразился, «наперекор культурным стремлениям неграмотного люда». «Не оживляясь тою живою речью, которою говорила вся живай Русь», древний литература, по его словам, не выражала духовной сущности народа. Здесь добираемся до истинной причины неприязни к ней самостийнического профессора: она была основана не на простонародном разговорном языке.
Допустить, чтобы Огоновский на знал элементарной научной истины о нетождественности всех мировых литературных языков с языками разговорными и о значительном различии между ними — невозможно. Перед нами, несомненно, риторический трюк, с помощью которого стремятся наукообразно совершить подмену одного понятия другим в политически спекулятивных целях. Душа народа будто бы жила в одной только устной словесности. «Книжники писали «Сборники», «Слова», «Послания» и иные вещи князьям, иерархам и панам на потеху, а неграмотный люд пел себе колядки, песни и думы и рассказывал старые сказки». Совершенно ясно, под народом здесь разумеется лишь простонародье, крестьяне. Такое мужиковство человека, взошедшего на старопанских дрожжах, никого в наше время обмануть не может; оно вызвано не симпатиями к простому народу, а исключительно необходимостью оправдать возведение простонародной «мовы» в ранг литературного языка. Так он и говорит: письменная литература Снова сделалась «душою народной жизни только в новейшем периоде, когда писатели стали действительно пользоваться языком и мировоззрением народа».
Таким путем удалось объявить недостойной, не выражающей украинского духа литературу не одного только киевского, но также и литовско-русского и польско-литовского периодов и, наконец, Литературу XVII— XVIII веков. Оказалось, что девятьсот лет письменность южно-русская шла ложным путем и только с появлением Котляревского вступила на истинную дорогу.
Но все же она не объявлена чужим достоянием; Огоновский сохраняет за Украиной все права на нее и, когда доходит до ее подробного разбора, проявляет исключительную придирчивость в смысле отнесения того или иного произведения к украинской литературе. Он, сколько нам известно, первый применил тот оригинальный метод для составления портфеля украинской письменности, который поразил даже его благожелателей. Он попросту начал механически перебирать произведения древней словесности и изымать оттуда все «украинское». Критерием служил преимущественно географический признак — где написано произведение? Остромирово Евангелие, предназначавшееся для новгородского посадника, отнесено к памятникам украинским потому, что выполнено в Киеве. «Хождение игумена Даниила» признано украинским потому, что в авторе можно предполагать человека из черниговской земли. Даже Даниил Заточник «был типом украинца». Современники не мало приложили старений для согласования этого утверждения с последующими словами Огоновского: «Жаль только, что о жизни этого мужа мы ничего почти не знаем — неизвестно нам, кто был Даниил, где родился, где и когда жил, и т.д.».
Огновского нисколько не смущало ни то обстоятельство, что «Слово о полку Игореве» сохранилось в псковском списке XIV века, ни то, что «Повесть временных лет» дошла до нас в суздальской редакции (Лаврентьевская летопись), ни происхождение «Патерика печерского», возникшего из переписки между суздальским и киевским иноками, следовательно, могущего рассматриваться как порождение обеих частей Руси.
Проделав хирургическую операцию по отделению украинской части от москальской, Огоновский принимается за прямо противоположное дело, как только доходит до XIX века с его чисто уже «народной» литературой, тут его задача не менее тонка и ответственна. Надо было показать, что галицкая и украинская литературы, возникшие и развивающиеся независимо одна от другой, не две, а одна. И опять, как в первом случае, выступает механический метод, на этот раз не разделения, а складывания. Собрав в кучу всех украинских и галицких писателей, Огновский располагает их в хронологическом порядке, так что после какого-нибудь Шашкевича и Устиновича идет Метлинский, Шевченко, Афанасьев, Чужбинский, Климкович и т.д.
Историко-литературный метод Огновского имел большой успех и перенесен был на изучение всех других отраслей украинской культуры. Начались поиски сколь-нибудь выдающихся живописцев, граверов, музыкантов среди поляков, немцев или русских малороссийского происхождения. Всех их, даже тех, кто родились и выросли в Вене, Кракове или Москве, заносили в реестр деятелей украинской культуры. Делалось это на том основании, что, как недавно выразилась одна самостийническая газета в Канаде,- «другі народи відбили, відперли, перекуплювали, перемовляли, а то по іх смерті крали украінських великих людей для збогачення своеі культури». Теперь этих «відбитых» и «відпертих» стали возвращать в украинское лоно.
Таким же образом возникли украинская математика, физика, естествознание. Наукове товариство им. Шевченко разыскало труды, написанные в разное время по-польски, по-русски, по-немецки людьми, у которых предполагали украинское или галицийское происхождение, перевело их на украинский язык, объявив украинским национальным достоянием, украинской наукой.
Появилась «Коротка географія Украіни» — Труд львовского профессора С. Рудницкого, благодаря которому мир познакомился с землями и водами соборной Украины. Книга произвела фурор очертаниями границ нового государства. Оказалось, что оно обширнее всех европейские стран, за исключением разве России; в него вошли кроме русской Украины, Галиций, Карпатской Руси и Буковины, также Крым, Кубань, часть Кавказа. Черное и Азовское моря объявлены «украинскими», и такое же название распространено на добрый кусок западного побережья Каспия. На иллюстрациях, изображающих «украинские» пейзажи, можно видеть Аю-Даг, Ай-Петри в Крыму, Военно-Грузинскую дорогу и Эльбрус на Кавказе. Автору удалось установить даже отличительные особенности украинского климата, независимого и самостоятельного.
Большая забота проявлена в создании и закреплении национальной терминологии. Земли соборной Украины дотоле именовались то Русью, то Малороссией, то Украиной. Были еще Новороссия, Буковина, Карпатская Русь, Холмищина. Все это надлежало унифицировать и подвести под одно имя. Раньше из этого не делали большой политики и все перечисленные термины были в ходу. Но примерно с 1900 года термины «Русь» и «Малороссия» подверглись явному гонению; их еще трудно было вытравить окончательно, но все усилия направляются на то, чтобы заменить их «Украиной». Выпустив первый том «Истории Украины — Руси», Грушевский вынужден был сохранить это название и для последующих томов, но во мох новых работах имя Руси опускалось и фигурировала одна «Украина».
Никто до сих пор не решался говорить об украинцах, белорусах и великорусах в эпоху так называемого расселения славян, все считали эти деления позднейшими, возникшими через тысячу лет, после «расселения», но Грушевский всех славян, живущих по Днестру, по Днепру и дальше на восток до Азовского моря, прозванных антами, — именует «украинцами». Надо сказать, что такая смелость появилась у него не сразу. Еще в 1906 году он признавался: «Конечно, в IX-Х веках не существовало украинской народности в ее вполне сформировавшемся виде, как не существовало и в ХII — XIV веках великоросской или украинской народности в том виде, как мы ее теперь себе представляем». Но уже в 1913 году в «Иллюстрированной истории Украины» он широко, пользуется терминами «Украина» и «украинский» для самых отдаленных эпох. Киевское государство Х — XIII веков для него, конечно, государство украинское. В полном согласии со схемой Духинского он резко отделяет и киевские земли, и сидящий на них «украинский» народ от северной и северо-восточной Руси. Хотя власть киевских князей распространялась на теперешние белорусские и великорусские земли, говорившие и писавшие одним языком, исповедовавшие одну общую с киевлянами веру, а, следовательно, подверженные и общему культурному влиянию, он не относит их к киевскому государству, а рассматривает скорее как колонии этого государства. Он решительно ополчается против рассказа Начальной летописи о призвании князей и о перенесении княжеской резиденции из Новгорода в Киев. Все это объявляется выдумкой. И Аскольд, и Дир, и Олег были природными киевскими князьями, а легенда о зарождении государственности на новгородском севере — позднейшая вставка в летопись.
Непрестанно подчеркивается более низкая в сравнении с Киевом культура северных и северо-восточных земель, но объясняется это не провинциальным их положением в отношении Киева, а какими-то гораздо большими отличиями. Из всей суммы высказываний видно, что эти отличия — расовые. Будущие великорусские области считались заселенными не славянами, а только славянизированными инородцами. Ни циклопических сдвигов в судьбах народов под влиянием нашествий вроде гуннского или татарского, ни перемены имен, ни смешения кровей и культур, ни переселений естественных и насильственных, ни культурной эволюции, ни новых этнических образований не существует для него. Украинская нация прошла через все бури и потопы, не замочив ног, сохранив свою расовую девственность чуть не от каменного века. Как известно, татарское нашествие было особенно опустошительным для русского юга. Плано Карпини, лет через пять проезжавший по территории теперешней Украины, живой души там не видел, одни кости. Грушевский посвятил обширный том, около шестисот страниц, в доказательство неправильности версии о запустении Украины при Батые. Историческая наука не высоко ценит это исследование, но в данном случае интересует не его правота или неправота, а породившая его тенденция, продиктованная сепаратистскими схемами и теориями.
О том, как излагается у Грушевского история Малороссии, тоже говорить много не приходится. Это — задолго до него сложившаяся точка зрения: переяславское присоединение к Москве не подданство, а «протекторат», Хмельницкий и Старшина обмануты москалями, царские воеводы и чиновники всячески помыкали украинцами и угнетали их как только могли, а глупый украинский народ не в силах будучи разобраться, кто его угнетает, винил во всем своих неповинных гетманов и старшину. И непосильные поборы, и введение крепостиого права — все дело рук москалей.
Грушевский как историк ответственен не только за свои собственные писания, но и за высказывания своих приспешников и единомышленников. Эрудиция и талант его поставлены были на службу не науке, а политике. Он и созданная им «школа» отличались от прежних историков — украинофилов тем, что фальсифицировали историю не в силу заблуждений, а вполне сознательно.
Украинизация языка, науки, быта, всех сторон жизни неизбежно должна была привести к мысли и об украинизации церкви. Это и было сделано, хотя с большим запозданием, как едва ли не последний по времени акт национального творчества сепаратистов. Причина тому, надо думать,- в большой внутренней трудности реформы. Церковь и без того была «украинской» от рождения. Она возникла в Киеве, учреждена киевскими князьями, служила девятьсот лет на языке, введенном теми же князьями и всем киевским обществом Х столетия. То был живой осколок Киевского государства. Объявив это государство «украинским», самостийники автоматически переносили новое имя на православную церковь. Теперь приходилось украинизировать украинское.
Кроме того, Грушевскому как историку лучше всех было известно, какую самоотверженную борьбу с католичеством выдержал южнорусский народ, защищая церковнославянский язык. Достаточно почитать Иоанна Вишенского, чтобы видеть, какой поход учинен против него и какой мощный отпор дан малороссийским народом в XVI-XVII веках. Язык этот был буквально выстрадан и освящен кровью народа. Очевидно, по этой причине, а также в целях единения всех славян Кирилдо-Мефодиевскев братство уделило в своем уставе особое внимание церковнославянскому языку. Провозглашая свободу всякого вероучения, оно требовало «единого славянского языка в публичных богослужениях всех существующих церквей». Но вот Грушевский, провозгласив «долой славянщину», воздвиг на него гонение. Объяснил он свою ненависть, подобно Огоновскому «демократическими» соображениями: язык — де мертвый, непонятный народу и полный архаизмов. Но истинная
[несколько предложений потеряны из-за брака верстки выжимки]
украинский народ чтит его, он не отступит и по общерусской литературной речи. Идея самостийнической церкви, где бы богослужение производилось на «мове», предопределена львовской политикой Грушевского. Но она, как все начинания сепаратистов, отмечена знаком ничтожного количества последователей.
Летом 1918 года созван был Всеукраинский церковный собор, на котором Василий Липковский поднял вопрос о богослужебном языке. Поставленный на голосование вопрос этот решен был подавляющим большинством голосов в пользу церковнославянского. Тогда попы-самостийники, без всякого согласия своих прихожан учинили Всеукраинскую церковную раду и объявили прежнее православие «панским», солидаризировавшись, с точкой зрения униатского катехита Омеляна Огоновского на язык своей церкви как «реакционный». «Пора нам, народе украінський, і свою рідну мову принести в дар Богові и цим найкраще ім і себе самих освятити і піднести і свою рідну церкву збудувати». Самостийники, видимо, не замечали, какой удар наносили своему движению, объявляя девятисотлетнее церковное прошлое Малороссии не своим, не «ридным».
Никаких чисто конфессиональных реформ церковная рада не произвела, если не считать включения в число церковных праздников «шевченковских дней» 25 и 26 февраля по старому стилю, причислявшего поэта-атеиста как бы к лику святых угодников. Затем последовала украинизация святцев. Перед нами «Молитовник для вжитку украінськоі православноі людності», выпущенный вторым изданием в Мангейме в 1945 году. Там греко-римские и библейские имена святых, ставшие за тысячу лет своими на Руси, заменены обыденными простонародными кличками — Тимош, Васыль, Гнат, Горпына, Наталка, Полынарка. В последнем имени лишь с трудом можно опознать св. Аполлинарию. Женские имена в «молитовнике» звучат особенно жутко для православного уха, тем более, когда перед ними значится «мученица» или «преподобная»: «Святые мученицы Параська, Тодоська, Явдоха». Не успевает православный человек подавить содрогание, вызванное такой украинизацией, как его сражают «святыми Ярыной и Гапкой». Потом идут «ученицы Палажка и Юлька» и так до … «преподобной Хиври».
Не подлежит сомнению, что в нормальных условиях, при свободной, ничем не стесняемой воле народа, все самостийнические ухищрения и выдумки остались бы цирковыми трюками. Ни среди интеллигенции, ни среди простонародья не было почвы для их воплощения. Это превосходно знали сепаратисты. Один из них, Сриблянский, писал в 1911 году: «Украинское движение не может основываться на соотношении общественных сил, а лишь на своем моральном праве: если оно будет прислушиваться к большинству голосов, то должно будет закрыть лавочку,- большинство против него».
Формальный украинский национализм победил при поддержке внешних сил и обстоятельств, лежавших за пределами самостийнического движения и за пределами украинской жизни вообще. Первая мировая война и большевистская революция — вот волшебные силы, на которых ему удалось въехать в историю. Все самые смелые желания сбылись, как в сказке: национально-государственная территория, национальное правительство, национальные школи, университеты, академии, своя печать, а тот литературный язык, против которого било столько возражений, на Украине, сделан не только книжным и школьным, но и государственным.
Вторая мировая война завершила здание соборной Украины. Галиция, Буковина, Карпатская Русь, неприсоединенные дотоле, оказались включенными в ее состав. При Хрущев ей отдан Крым.
Все сделано путем сплошного насилия и интриг. Жителей огромных территорий даже не спрашивали об их желании, или нежелании пребывать в соборной Украине. Участь карпатороссов, например, просто трагична. Этот народ, веками томившийся под мадьярским игом, выдержавший героическую борьбу за сохранение своей русскости и ни о чем кроме воссоединения с Россией и возвращения в лоно русской культуры не мечтавший, лишен даже прав национального меньшинства в украинской республике — он объявлен народом украинским. Русская и мировая демократия, поднимающая шум в случае малейшего ущемления какого-нибудь людоедского племени в Африке, обошла полным молчанием факт насильственной украинизации карпатороссов.
Впрочем, не при таком же ли молчании прошла лет сорок пять тому назад принудительная украинизация малороссийского народа? Этот факт затерт и замолчан в публицистике и в истории. Ни простой народ, ни интеллигенция не были спрошены, на каком языке они желают учиться и писать. Он был предписан верховной властью. Интеллигенция, привыкшая говорить, писать и думать по-русски и вынужденная в короткий срок переучиваться и перейти на сколоченный наскоро новый язык, испытала немало мучений. Тысячи людей лишились работы из-за неспособности усвоить «державну» мову».
Оправдались ли ожидания марксистских теоретиков насчет бурного культурного роста малороссийского населения, покажут будущие социальные исследования. Пока что никакого переворота в этой области не наблюдаем. Образованность после введения «ридной мови» повысилась ничуть не больше, чем была при господстве общерусского языка. Но самостийнические главари об этом меньше всего заботились. Предметом их вожделении была национальная •форма, и, как только большевики им предоставили ее, они сочли себя вполне удовлетворенными. Грушевский и другие столпы самостийничества прекратили борьбу с советской властью и вернулись в СССР.
Большевики могли не производить ни украинизации, ни белоруссизации. Предоставление форм национального самоуправления грузинам, армянам, узбекам и другим имело смысл по причине подлинно национального обличья этих народов. Там национальная политика могла пробудить симпатии к большевизму. Но на Украине, где национализм высасывался из пальца, где он составлял всегда малозаметное явление, австромарксистская реформа явилась сущим подарком маньякам и фанатикам. Апелляция к русской Украине дала бы больше выгод.
Впрочем украинская политика большевиков до падения Германской империи определялась неродной только австромарксистской программой, но и указаниями из Берлина. В Берлине же, кроме большевистских заслуг, ценили также заслуги самостийников. Теперь, когда факт субсидирования большевиков немцами в 1917 году не подлежит сомнению, уместно напомнить и об украинских сепаратистах. Во время войны они сотрудничали с большевиками в пользу общего хозяина — германского генерального штаба. Когда началось это сотрудничество, точно не знаем, но весьма возможно, что уже в 1913 году они делали одно дело. В Австрии в то время действовал Союз освобождения Украины, представленный Д. Донцовым, В. Дорошенко, А. Жуком, Мельневским, А. Скоропись-Иолтуховским. И для этого же времени отмечен факт получения Лениным денег от австрийцев. По словам Милюкова, в 1913 году Ленин в Кракове получил на издание своих сочинений австрийские деньги. Узнал об этом Милюков «от одного представителя отделившихся национальностей, получившего там же и в то же время предложение австрийских субсидий». Быть может, уже тогда самостийники объединены были совместной работой с Лениным. По крайней мере в листовке Союза освобождения Украины, выпущенной в 1914 году в Константинополе, Парвус и Ленин превозносятся как «найкращі марксистські голови». По-видимому, уже тогда Парвус был общим хозяином для тех и других, а в ходе войны он окончательно связал их через свое копенгагенское ведомство.
Австрийское правительство, кажется, охладело к своим агентам и они очутились в сфере германской диверсионной акции. Архивы до сих пор хранят тайну подробностей этого сотрудничества, но уже в 1917 году из рассказа прапорщика Ермоленко, заброшенного немцами в русский тыл, и секретаря швейцарского украинского бюро Степаньковского, арестованного контрразведкой Временного правительства при переходе границы, выяснен факт одновременного сотрудничества большевиков и украинского Союза, освобождения с Парвусом и его копенгагенским и стокгольмским центрами. Степаньковский указал Меленевского и Скоропись-Иолтуховского, находившихся в тесной связи с Ганецким — большевистским агентом, осуществлявшим посредничество между Лениным и Парвусом. Можно ли было с приходом к власть забыть таких союзников ?
Главные адвокаты самостийничества — русские !
Русское «общество» никогда не осуждало, а власть не карала самостийников за сотрудничество с внешними врагами. Грушевский, уехавший во Львов и в продолжение двадцати лет ковавший там заговор против России, ведший открытую пропаганду ее разрушения,- спокойно приезжал, когда ему надо было, и в Киев, и в Петербург, печатал там свои книги и пользовался необыкновенным фавором во всех общественных кругах. В те самые годы, когда он на весь мир поносил Россию за зажим «украинского слова», статьи его, писанные по-украински, печатались в святая святых русской славистики — во втором отделении Императорской Академии Наук, да еще не как-нибудь, а в фонетической транскрипции. Когда он, наконец, в 1914 году попал на австрийской территории в руки русских военных властей и как явный изменник должен был быть сослан в Сибирь, в Москве и в Петербурге начались усиленные хлопоты по облегчению его участи. Устроили так, что Сибирь заменена была Нижним Новгородом, а потом нашли и это слишком «жестоким» — добились ссылки его в Москву.
Оказывать украинофильству поддержку и покровительство считалось прямым общественным долгом с давних пор. И это несмотря на вопиющее невежество русской интеллигенции в украинском вопросе. Образцом может считаться Чернышевский. Ничего не знавший о Малороссии кроме того, что можно вычитать у Шевченко, а о Галиции ровно ничего не знавший, он выносит безапелляционные и очень резкие суждения по поводу галицийских дел. Статьи его «Национальная бестактность» и «Народная бестолковость», появившиеся в «Современнике» за 1861 год, обнаруживают полное его незнакомство с местной обстановкой. Упрекая галичан за подмену социального вопроса национальным, он, видимо, и в мыслях не держал, что оба эти вопроса слиты в Галиции воедино, что никаких других крестьян там, кроме русинов, нет, так же как никаких других помещиков, кроме польских, за единичными исключениями, тоже нет.
Призыв его бороться не с поляками, а с австрийским правительством, сделанный в то время, когда австрийцы отдали край во власть графа Голуховского, яростного полонизатора,- смешон и выдает явственно голос польских друзей — его информаторов о галицийских делах. Этими информаторами, надо думать, инспирированы указанные выше статьи Николая Гавриловича. Нападая на газету «Слово», он даже не разобрался в ее направлении, считая его проавстрийским, тогда как газета была органом москвофилов. Зато те, что подбивали его на выступление, отлично знали, на кого натравливали.
Получив в 1861 году первые номера львовского «Слова», он пришел в ярость при виде языка, которым оно напечатано. «Разве это малорусский язык? Это язык, которым говорят в Москве и Нижнем Новгороде, а не в Киеве или Львове». По его мнению, днепровские малороссы уже выработали себе литературный язык и галичанам незачем от них отделяться. Стремление большинства галицийской интеллигенции овладеть как раз тем языком, «которым говорят в Москве и в Нижнем Новгороде», было сущей «реакцией» в глазах автора «Что делать». Русская революция, таким образом больше ста лет тому назад взяла сторону народовцев и больше чем за полсотни лет до учреждения украинского государства решила, каким языком оно должно писать и говорить. Либералы, такие как Мордовев в «СПБургских ведомостях», Пыпин в «Вестнике Европы» защищали этот язык и все самостийничество больше, чем сами сепаратисты. «Вестник Европы» выглядел украинофильским журналом.
Господствующим тоном, как в этом, так и в других подобных изданиях были ирония и возмущение по поводу мнимой опасности для целости государства, которую выдумывают враги украинофильства. Упорно внедрялась мысль о необоснованности таких страхов. По мнению Пыпина, если бы украинофильство заключало какую-нибудь угрозу отечеству, то неизбежно были бы тому фактические доказательства, а так как таковых не существует, то все выпады против него — плод не в меру усердствующих защитников правительственного режима. Украинофильство представлялось не только совершенно невинным, но и почтенным явлением, помышлявшим единственно о культурном и экономическом развитии южнорусского народа. Если же допускали какое-то разрушительное начало, то полагали его опасным исключительно для самодержавия, а не для России.
Когда открылась Государственная дума, все ее левое крыло сделалось горячим заступником и представителем за самостийнические интересы. Посредством связей с думскими депутатами и фракциями украинские националисты имели возможность выносить с пропогандными целями обсуждение своих вопросов на думскую трибуну. Члены петербургского Товариства украинских прогрессистов проложили дорогу к Милюкову, к Керенскому, к Кокошину. Александр Шульгин в своей книге, изданной на французском языке, «Украина против Москвы» пишет, что только февральский переворот помешал внесению запроса в Думу относительно высылки из Галиции в Сибирь прелата униатской церкви графа Андрей Шептицкого — заклятого врага России. Генерал Брусилов во время занятия русскими войсками Галиции арестовал его за антирусские интриги, но выпустил, взяв обещание прекратить агитационную деятельность. Однако стоило Шептицкому очутиться на свободе, как он снова с церковной кафедры начал проповеди против русских. После этого он был удален из Галиции. За этого-то человека думцы обещали заступиться в самый разгар ожесточенной войны.
Говорить о личных связях между самостийникамй и членами русских революционных и либеральных партий вряд ли нужно по причине их широкой известности. В эмиграции до сих пор живут москвичи, тепло вспоминающие «Симона Васильевича» (Петлюру), издававшего в Москве перед первой мировой войной самостийническую газету. Главными ее читателями и почитателями были русские интеллигенты.
Академический мир тоже относился к украинской пропаганде абсолютно терпимо. Он делал вид, что не замечает ее. В обеих столицах под боком у академий и университетов издавались книги, развивавшие фантастические теории, не встречая возражений со стороны ученых мужей. Одного слова таких, например, гигантов, как М. А. Дьяконов, С. Ф. Платонов, А. С. Лаппо-Данилевский, достаточно было, чтобы обратить в прах все хитросплетения Грушевского. Вместо этого Грушевский спокойно печатал в Петербурге свои политические памфлеты под именем историй Украины. Критика такого знатока казачьей Украины, как В. А. Мякотин, могла бы до гола обнажить фальсификацию, лежавшую в их основе, но Мякотин поднял голос только после российской катастрофы, попав в эмиграцию. До тех пор он был лучший друг самостийников.
Допустить, чтобы ученые не замечали их лжи, невозможно. Существовал неписанный закон, по которому за самостийниками признавалось право на ложь. Разоблачать их считалось признаком плохого тона, делом «реакционным», за которое человек рисковал получить звание «ученого-жандарма» или «генерала от истории». Такого звания удостоился, например, крупнейший славист, профессор Киевского университета, природный украинец Т. Д. Флоринский. по-видимому, он и жизнью заплатил за свои антисамостийнические высказывания. В самом начале революции он был убит, по одной версии — большевиками, по другой — самостийниками.
Но если были терроризованные и запуганные, то не было недостатка и в убежденных украинофилах. По словам Драгомвнова, Скабический хвалил Шевченко и всю новейшую украинофильскую литературу, не читавши ее. К столь же «убежденным» принадлежал академик А. А. Шахматов. Он, надо думать, играл главную роль в 1906 году при составлении академической «Записки» в пользу украинского языка.
Появилась в 1909 году в Праге работа знаменитого слависта профессора Нидерле «Обозрение современного славянства» и сразу же была переведена на русский язык, а через два года вышла в Париже по-французски. В ней уделено соответствующие внимание малороссам и великороссам, у которых, по словам Нидерле, «столь много общих черт в истории, традиции, вере, языке и культуре, не говоря уже об общем происхождении, что с точки зрения стороннего и беспристрастного наблюдателя это — только две части одного великого русского народа». Приводим эту выдержку не столько ради нее самой, сколько по причине отсутствия ее в русском издании. Ее можно найти во французском переводе Лежа, но в русском, выведшем под маркой Академии Наук, она выпущена вместе с изрядной частью других рассуждений Нидерле.
Украинский национализм — порождение не одних самостийников, большевиков, поляков и немцев, но в такой же степени русских. Чего стояла полонофильская политика императора Александра I, намеревавшегося вернуть Польше малороссийские и белорусские губернии, взятые Екатериной и Павлом при польских разделах! Когда это не удалось вследствие недовольства правящих кругов, заявивших устами Карамзина: «Мы охладели бы душой к отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола». Царь отдал этот край в полное распоряжение польскому помещичьему землевладению и старопанской полонизаторской политике. Николай Павлович не имел склонности дарить русские земли, но не очень в них и разбирался. Во время польского мятежа 1830 -1831 годов он с легким сердцем отнес жителей западных губерний, то есть малороссов и белоруссов, к «соотечественникам» восставших. В учебнике географии Арсеньева, принятой в школах с 1820 по 1850 год, население этих губерний именуется «поляками». Какие еще нужны доказательства полной беспризорности Малороссии? Она в продолжение всего XIX столетия отдана была на растление самостийничеству и только чудом сохранила свою общность с Россией.
Едва ли не единственный случай подлинной тревоги подлинного понимания смысла украинского национализма видим в статьях П. Б. Струве в «Русской мысли». Это первый призыв, исходящий из «прогрессивного» лагеря к русскому общественному мнению, «энергично, без всяких двусмысленностей и поблажек вступить в идейную борьбу с «украинством» как тенденцией ослабить и даже упразднить великое приобретение нашей истории — общерусскую культуру». Струве усмотрел в нем величайшего врага этой культуры — ему представляется вражеским, злонамеренным самое перенесение разговоров об украинизме в этнографическую плоскость как один из способов подмены понятия «русский» понятием «великорусский». Такая подмена — плод политической тенденции скрыть «огромный исторический факт: существование русской нации и русской культуры», «именно русской, а не великорусской». «Русский», по его словам, «не есть какая-то отвлеченная «средняя» из всех трех терминов (с прибавками «велико», «мало», «бело»), а живая культурная сила, великая развивающаяся и растущая национальная стихия, творимая нация (nation in the making, как говорят американцы)».
Только после большевистского эксперимента, сделавшего так много для превращения русской культуры в «великорусскую», можно в полной мере оценить такую постановку вопроса. Русская культура -«неразрывно связана с государством и его историей, но она есть факт, в настоящее время даже более важный и основной, чем самое государство». Низведение ее до местной, «великорусской» дает основание ставить рядом с нею как равные — малорусскую и белорусскую. Но ни одна из этих «культур» — еще не культура. «Их еще нет,- заявляет Струве,- об этом можно жалеть, этому можно радоваться, но во всяком случае это факт». Недаром евреи в черте оседлости, жившие по большей части среди белорусов и малорусов, приобщались не к малорусской и белорусской, а к русской культуре. На всем пространстве Российской империи за исключением Польши и Финляндии Струве не видит ни одной другой культуры, возвышающейся над всеми местными, всех объединяющей. «Гегемония русской культуры в России есть плод всего исторического развития нашей страны и факт совершенно естественный». Работа по ее разрушению и Постановка в один ряд с нею других как равноценных представляется ему колоссальной растратой исторической энергии населении, которая могла бы пойти на дальнейший рост культуры вообще.
Сколь ни были статьи Струве необычными для русского «прогрессивного» лагеря, они не указали на самую «интимную» тайну украинского-сепаратизма, отличавшую его от всех других подобных явлений,-на его искусственность, выдуманность. Гораздо лучше это было видно людям «со стороны», вроде, чехов. Крамарж называл его «противоестественным», а «Парламентар», орган чешских националистов,. писал об «искусственном взращивании» украинского национализма. До прихода к власти большевиков он только драпировался в национальную тогу, а на самом деле был авантюрой, заговором кучки маньяков. Не имея за собой и одного процента населения и интеллигенции страны, он выдвинул программу отмежевания от русской культуры вразрез со всеобщим желанием. Не будучи народен, шел не на гребне волны массового движения, а путем интриг и союза со всеми антидемократическими силами, будь то русский большевизм или австро-польский либо германский нацизмом. Радикальная русская интеллигенция никогда не желала замечать этой его реакционности. Она автоматически подводила его под категорию «прогрессивных» явлений, позволив красоваться в числе «национально — освободительных» движений.
Сейчас он держится исключительно благодаря утопической политике большевиков и тех стран, которые видят в нем средство для расчленения России.
Ульянов Николай Иванович.:Происхождение украинского сепаратизмаН.И.Ульянов. — Moсквa : Индрик, 1996. — 278 с. : Ill.
ISBN 5-85759-029-9